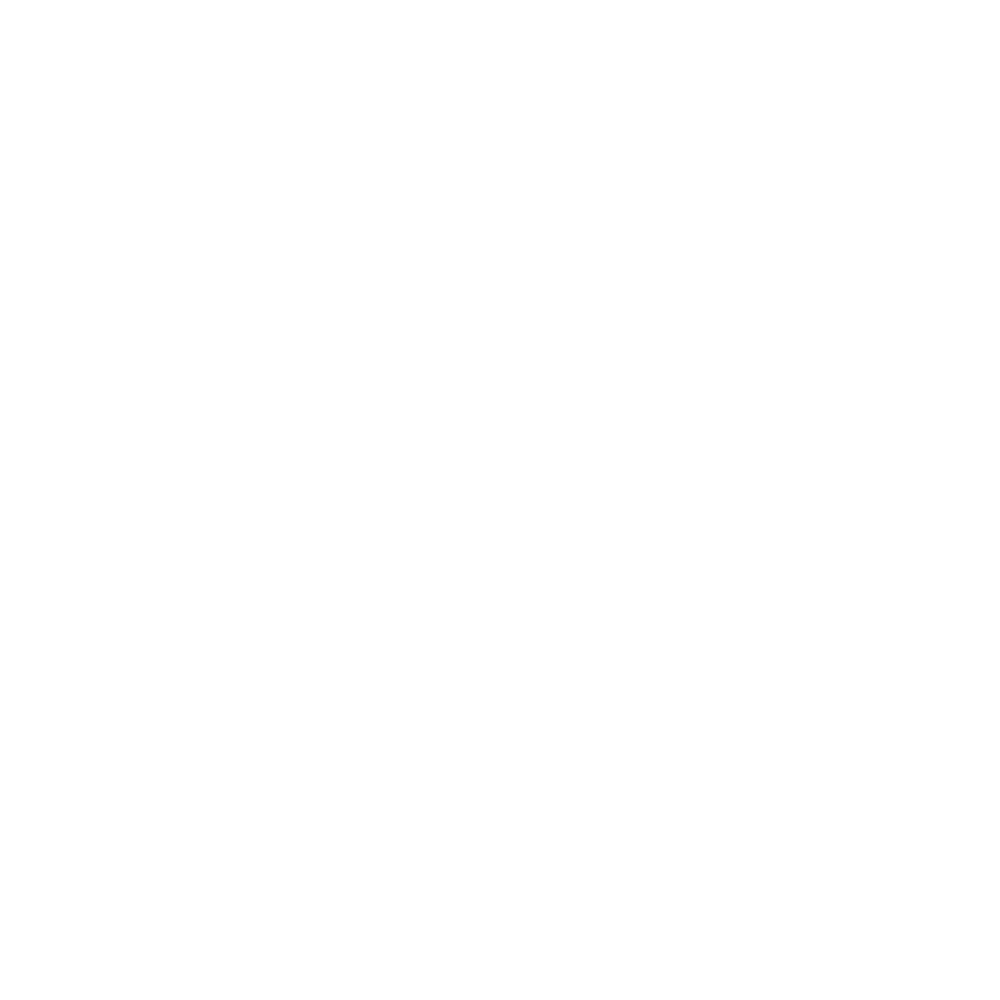Подборки финалистов
Денис Липатов
Подборка 927
Подборка 927
Олег Гориславич едет в Орду
/ / /
Один мой друг – он стоил двух
Он стоил трёх и четырёх,
Он надевал зимой треух,
И вовсе не был пустобрёх
Под поезд прыгал не шутя –
Вот остолоп!
А поезд ехал несмотря,
Что все кричали: стоп!
Проехал поезд, все бегут,
Боятся и смотреть,
А он стоит, дудит в дуду,
Помолодев на треть.
/ / /
мы сидели на батумской
пили водку в три горла
почтальонша с толстой сумкой
телеграмму принесла
где-то в дальнем захолустье
средь лесов полей и рек
от тоски или от грусти
умер тоже человек
мы его совсем не знали
нам по сути всё равно
те кому ту смерть прислали
с хазы съехали давно
но как будто кто незримый
положил конец гульбе
жизни ход неотвратимый
вновь напомнил о себе
так вот где-то околеешь
и не скажешь никому
как ты здесь овечкой блеешь
волком воешь на луну
/ / /
Стояла достоевская погода:
февраль в обнимку с ноябрём,
Раскольников курил ещё у входа,
смотрел на всех нетопырём.
Князь Мышкин плюхал за трамваем,
Рогожин в джипе пёр на тротуар,
Фома Фомич почти неузнаваем
на радио о чём-то тёр базар.
Дома смотрели косо и уныло,
видать, за каждым прятали окном
бомбистов, чтоб их просквозило,
телегой задавило за углом.
Виня отца во всём, что наболело,
любой подросток, как Наполеон,
за пустячок считал любое дело
и всё грозился выиграть миллион.
Во всём, видать, погода виновата –
февраль в обнимку с ноябрём:
хотелось встать с пикетом у Сената
и обозвать кого-нибудь ворьём.
Хотелось спорить за горячим чаем
о Марксе, о французских леваках,
разбогатеть каким-нибудь случаем
и снова проиграться на бегах.
Всё это блажь, твою литературу!
Февраль в обнимку с ноябрём.
Осваивай, Софи, клавиатуру
и к Свидригайлову иди секретарём.
/ / /
Он видит эр делённое на дэ,
а надо бы – «российские дороги»,
транзитный поезд из Улан-Удэ,
с «плацкарты» свешивая ноги
причаливает. Смотрит проводник,
осоловевший от дежурных суток –
как Будда он из хаоса возник,
как будто – из дорожных прибауток,
из вони «дошираков» и хамсы,
из «пагод» простыней у туалета,
из дембелей, «попутавших рамсы»,
из ругани – а кто здесь без билета? –
из санитарных зон с закрытым нужником,
надёжней Северной Кореи –
он в щёлки глаз затурканным божком
глядит, с недосыпа дурея.
Читает: «Управление р/д»
и на себя досадует и злится –
зачем ему – улану из Удэ –
за этим ребусом тащиться!..
/ / /
Олег Гориславич едет в Орду,
говорит: привезу из Орды Беду,
будем с той Бедой бедовать,
Русью станем вдвоём помыкать.
Борис Безобразович едет в Орду,
говорит: там невесту себе найду,
стану у хана любимым зятем –
все вы подавитесь «ером» да «ятем».
Пёс Поганович едет в Орду –
сам для хана жену украду,
стану для хана законный тесть,
без меня чтоб ни встать!
без меня чтоб ни сесть!
А Иван-свет-Васильевич едет в Орду,
хана – мыслит – уж я изведу,
помогайте же мне ворожба да обман –
сам де буду – Великий хан.
Вот Олег возвращается из Орды:
запряжён коренным у Беды,
а Борис, став любимым зятем,
сам удавлен невестой в кровати.
Ну а Пёс Поганыч – законный тесть –
гложет цепь, а с неё не слезть,
а Иван стал взаправду хан,
и свиреп, как волк, и как змей – поган.
/ / /
Половецкие эти пляски
ныне сызнова входят в моду –
запрягай не коней, но хаски,
и айда курощать воеводу.
Не за службу, а смеха ради
мы посадим собаку на кол.
Запиши в допросной тетради:
как ребёнок старик заплакал.
Знаю, знаю – везде некстати:
что ни город – дыра да яма –
ни ясак не собрать, ни рати,
и ни страха у них, ни срама.
Завиляла хвостом собачьим
по казённым делам судьбина,
а к иному – глухим и незрячим
хан велит тебе быть, детина.
Но с каким бы ни жил народцем,
а от них наберёшься всё же:
не ходить в табуне иноходцем,
вдруг поверишь их боженьке тоже.
В ягдташе – ярлыки да басмы –
промеж ябед и недоимок
вдруг случается приступ астмы,
этих песенок жалкий суглинок.
/ / /
Сидит дурак на солнышке,
бормочет: «Бу-бу-бу…»
клокочет что-то в горлышке,
да булькает в зобу.
Так радостно и счастливо –
весёленький денёк!
народ глядит опасливо:
«Чё лыбишься, пенёк?»
Да ну вас! В самом деле –
такие дураки!
Здесь солнце и качели,
стрекозы и жуки!
А вы с глазами палтуса
спешите по делам.
Да я вам – даже с кактуса
иголочки не дам.
Один мой друг – он стоил двух
Он стоил трёх и четырёх,
Он надевал зимой треух,
И вовсе не был пустобрёх
Под поезд прыгал не шутя –
Вот остолоп!
А поезд ехал несмотря,
Что все кричали: стоп!
Проехал поезд, все бегут,
Боятся и смотреть,
А он стоит, дудит в дуду,
Помолодев на треть.
/ / /
мы сидели на батумской
пили водку в три горла
почтальонша с толстой сумкой
телеграмму принесла
где-то в дальнем захолустье
средь лесов полей и рек
от тоски или от грусти
умер тоже человек
мы его совсем не знали
нам по сути всё равно
те кому ту смерть прислали
с хазы съехали давно
но как будто кто незримый
положил конец гульбе
жизни ход неотвратимый
вновь напомнил о себе
так вот где-то околеешь
и не скажешь никому
как ты здесь овечкой блеешь
волком воешь на луну
/ / /
Стояла достоевская погода:
февраль в обнимку с ноябрём,
Раскольников курил ещё у входа,
смотрел на всех нетопырём.
Князь Мышкин плюхал за трамваем,
Рогожин в джипе пёр на тротуар,
Фома Фомич почти неузнаваем
на радио о чём-то тёр базар.
Дома смотрели косо и уныло,
видать, за каждым прятали окном
бомбистов, чтоб их просквозило,
телегой задавило за углом.
Виня отца во всём, что наболело,
любой подросток, как Наполеон,
за пустячок считал любое дело
и всё грозился выиграть миллион.
Во всём, видать, погода виновата –
февраль в обнимку с ноябрём:
хотелось встать с пикетом у Сената
и обозвать кого-нибудь ворьём.
Хотелось спорить за горячим чаем
о Марксе, о французских леваках,
разбогатеть каким-нибудь случаем
и снова проиграться на бегах.
Всё это блажь, твою литературу!
Февраль в обнимку с ноябрём.
Осваивай, Софи, клавиатуру
и к Свидригайлову иди секретарём.
/ / /
Он видит эр делённое на дэ,
а надо бы – «российские дороги»,
транзитный поезд из Улан-Удэ,
с «плацкарты» свешивая ноги
причаливает. Смотрит проводник,
осоловевший от дежурных суток –
как Будда он из хаоса возник,
как будто – из дорожных прибауток,
из вони «дошираков» и хамсы,
из «пагод» простыней у туалета,
из дембелей, «попутавших рамсы»,
из ругани – а кто здесь без билета? –
из санитарных зон с закрытым нужником,
надёжней Северной Кореи –
он в щёлки глаз затурканным божком
глядит, с недосыпа дурея.
Читает: «Управление р/д»
и на себя досадует и злится –
зачем ему – улану из Удэ –
за этим ребусом тащиться!..
/ / /
Олег Гориславич едет в Орду,
говорит: привезу из Орды Беду,
будем с той Бедой бедовать,
Русью станем вдвоём помыкать.
Борис Безобразович едет в Орду,
говорит: там невесту себе найду,
стану у хана любимым зятем –
все вы подавитесь «ером» да «ятем».
Пёс Поганович едет в Орду –
сам для хана жену украду,
стану для хана законный тесть,
без меня чтоб ни встать!
без меня чтоб ни сесть!
А Иван-свет-Васильевич едет в Орду,
хана – мыслит – уж я изведу,
помогайте же мне ворожба да обман –
сам де буду – Великий хан.
Вот Олег возвращается из Орды:
запряжён коренным у Беды,
а Борис, став любимым зятем,
сам удавлен невестой в кровати.
Ну а Пёс Поганыч – законный тесть –
гложет цепь, а с неё не слезть,
а Иван стал взаправду хан,
и свиреп, как волк, и как змей – поган.
/ / /
Половецкие эти пляски
ныне сызнова входят в моду –
запрягай не коней, но хаски,
и айда курощать воеводу.
Не за службу, а смеха ради
мы посадим собаку на кол.
Запиши в допросной тетради:
как ребёнок старик заплакал.
Знаю, знаю – везде некстати:
что ни город – дыра да яма –
ни ясак не собрать, ни рати,
и ни страха у них, ни срама.
Завиляла хвостом собачьим
по казённым делам судьбина,
а к иному – глухим и незрячим
хан велит тебе быть, детина.
Но с каким бы ни жил народцем,
а от них наберёшься всё же:
не ходить в табуне иноходцем,
вдруг поверишь их боженьке тоже.
В ягдташе – ярлыки да басмы –
промеж ябед и недоимок
вдруг случается приступ астмы,
этих песенок жалкий суглинок.
/ / /
Сидит дурак на солнышке,
бормочет: «Бу-бу-бу…»
клокочет что-то в горлышке,
да булькает в зобу.
Так радостно и счастливо –
весёленький денёк!
народ глядит опасливо:
«Чё лыбишься, пенёк?»
Да ну вас! В самом деле –
такие дураки!
Здесь солнце и качели,
стрекозы и жуки!
А вы с глазами палтуса
спешите по делам.
Да я вам – даже с кактуса
иголочки не дам.
Амирам Григоров
Подборка 926
Подборка 926
Лебединая песня
Там пахло пряностями, хной и воскурением Непала
Под намалёванной Луной хозяйка тихо напевала
На непонятном языке и грызла яблоки из сада,
И было слышно – вдалеке проходит поезд из Посада
Был летний вечер, дождь косой, котята прыгали по креслам
И свет над средней полосой искрил, как трансформатор Тесла
И до Москвы не догрести, и я, на этой даче пришлый,
Сидел, из вежливости тих, внимал историям о Кришне.
О, эта русская мечта о новой, искренней Вселенной
Когда веганская еда идёт причастию заменой,
И по краям твоих обнов индийский тянется орнамент
И ты, из родины слонов, уходишь к югу, за слонами
Потом, немало лет спустя судьбою был сюда направлен
И снова яблоки хрустят и под ногами мнутся травы
И снова русской темнотой окрестная земля залита
А дачный дом стоит пустой, и заколочена калитка
И нет ни стёкол, ни котят, ни пёстрых тряпок на матрасе
И только вороны летят, как облака над Варанаси
*
Герману Титову
Море чуть слышно стонет, переходя на свист
Вот он стоит на склоне, гипсовый мой горнист
Мой одинокий, жалкий - там, где кипит паслён
И пузырьки фиалки поработили склон
Южная часть России, степи её, леса.
Что же так облупились белые корпуса?
И не скрипят качели у небольшой реки
Что же так заржавели детские турники?
Ты воструби мой ангел, вплоть до небесных сфер -
Встанут станки и танки, бедный СССР,
И на заре заводы трубами задымят.
Детям твоим сегодня стукнуло пятьдесят.
Ты нам сыграй на счастье - только не вострубит,
Нет у него запястья, горн у него отбит,
И не узнать, хоть тресни, так ли они нужны,
Эти жемчужки песни в раковинах ушных
*
Весна колышет липкими руками
Под мокрым небом синего стекла,
Пока косая не нашла на камень
И под него меня не увлекла -
Я сам сойду в метро, где греют люстры
Где вечный свет, и морок не берёт,
И на колоннах - древние моллюски,
Распиленные вдоль и поперёк.
Невесть когда, в силуре или в меле,
Упав на дно – великое нигде -
Они в последний раз окаменели,
Уснули в незапамятной воде,
Теперь открыткой в мраморном конверте
Для силурийских губок – поцелуй,
И всем открыт здоровый образ смерти
На стенах Комсомольской кольцевой.
Двустворчаткой, забитой в древний берег
Косым сеченьем через позвонок,
А может быть – распилом через череп
Впиши меня в сияющий чертог,
Чтоб просто так, грехов не искупая,
При чистом свете - навсегда внизу.
Для той поры, как стану ископаем,
Ты приготовь, Господь, свою фрезу.
*
Лебединая Пресня
Над зоопарком звучит лебединая Пресня,
Речка, забытая в устье
И под копытами сумерек льдинка не треснет
Снежная манка не хрустнет
Жду тебя подле стены, шелохнуться не смея,
Как из провинции прибыл,
И под землёю дрожат безвоздушные змеи,
Дремлют безводные рыбы,
Как нам совсем не пропасть в человеческой стае,
Роза моя и адонис,
Ведь не успеешь вздохнуть - наше время растает
Словно снежок на ладони
Город побелен, и мы в этом царстве акрила,
Жаль, не расскажешь ребятам
Как нас сегодня с тобою реально накрыло
Пресненским валом девятым
*
Выходит так, что связаны с тобой,
Места, где до тебя бывал бессчётно.
Где тонкий мост, невидимый прибой
И бронзовые монстры на Болотной,
Хазарский двор, твою хранящий тень,
Таганский ливень под случайной бровкой,
И «Третий глаз» закрытый, и сирень,
Зевок мотора в паузе неловкой,
И так легко, что впору умереть,
И будет петь очередной асадов,
Как мелкий клевер прорастает средь
Делянок ботанического сада,
Про путь кружной, про кислое ситро,
Про павильон царицынский с Минервой,
Про благовест Коломенского, про
Безудержные яблони, и первый,
Наш лучший год. До самого тепла,
Пока земля не заберёт обратно.
Посмотришь вверх - как при тебе, легла
Звезда над переулками Арбата
*
Исходит свет из белых фур и млечный путь тусклей
И разливает Азнавур парижский свой елей
А воздух вечера застыл, и много раз подряд
Уходят белые сады на Сергиев Посад
Зачем словесные бои, когда и ветер - стих
И пальцы тонкие твои опять в руках моих
Когда обочины черны, вишнёвый свет истлел
И не видать своей страны, как соловья в листве.
**
В гремящем тамбуре молчишь, закат неодолимо горек
Над треугольниками крыш и позвонками новостроек,
И тут какой то мужичок минуту верную находит,
Встаёт, и, дёргая плечом, петь принимается в проходе.
Знакомы эти песни всем, про мусоров и птицу в клетке,
Про травы первые в росе и друганов на малолетке,
Про бесконечные поля, про стужу зимнюю и вихри.
И замолчали дембеля, студенты пьяные притихли.
Тут отвернёшься, лбом в металл уткнёшься, улыбаясь, с тем лишь,
Чтоб слёз никто не увидал, и будет, позже, как задремлешь,
Любовь святая, на века, кульки с крыжовником, рассада,
И будут падать облака за колокольнями Посада.
*
Когда глядишь себе в глаза, вкусив запретный плод
А поезда бегут назад, часы - наоборот
Иду в пальтишке на парад, с пучком гвоздик в руке
И блики южные стоят на белом потолке
О чём я думал в этот миг, не вспомнить нипочём
Не плюнь в прозрачный мой родник, и не толкни плечом
В советском клетчатом пальто храни меня храни
И нет у Агнии Барто про адские огни
*
Крапивница, белянка, адмирал.
Маши сачком, как саблей на войне,
А я в то лето бронзовку поймал,
Накрыл рукой, и счастлив был вдвойне
«Ты только не рассказывай, молчок»,
И каждому, наверно, предъявил -
Живёт в коробке бронзовка жучок
Скрежещет изо всех жучиных сил,
Мой добрый юг, мой синий самолёт,
Крапивный суп, смородина, омлет
И самым первым бронзовка умрёт
Из всех, кто был со мною на Земле.
*
Д. Артису
Там, за борисовской волной,
Где вдоль плотины сохнут тени
И дремлет яблонь ветхий строй
Среди разбойничьей сирени,
Там, где церквушка божий гнев
Отводит, по колено в иле,
Спилили несколько дерев,
И голубятню разорили,
И в час, когда за третий Рим
Текут ветра его в истоме
Взмывают в небо сизари,
И каждый кажется бездомным,
А в их разграбленном дому,
Где стынут новые рябины
Теперь не слышен никому
Бесплотный лепет голубиный.
Щебечет гравий привозной,
И комариный воздух клеек
А ты, разбуженный весной,
Упал меж крашеных скамеек
И проступил сквозь пустоту,
Мир, бывший проще и понятней,
Где эти яблони в цвету,
И вечный свет над голубятней.
анна долгарева
Подборка 836
Подборка 836
Мифология двадцатых
***
Никто не называл еебабой Шурой –исключительно Александрой Петровной,бывало, как выйдет она за калитку,как пойдет со спиною ровной,как у студенточки,так и матерятся восхищенно вслед,как и не бывало шестидесяти лет.
А судьба как у всех, чего там такого,вышла замуж рано за тракториста Смирнова,смирным и был, любил ее, помер в сорокпосадила шиповник и астры на земляной взгорок.
Учила детей в школе, своих пацанов растила,ухажеры, конечно, были:как пойдет она вечером по долине стылой,по мареву из полыни, так сердце станет,пригласить бы на танец,да она все с детишками,а если не с ними, то с книжками.
А как вышла на пенсию, так чего начала:Набрала стройматериалов, фанеры, стеклаи принялась мастеритьлетательный аппарат без топливного тягла.По-простому – лодчонку и два крыла.
Объясняла про экологию,дескать, время нефти ушло,дескать, как прекрасно будет летать в магазинв соседнее, к примеру, село.«А потом, - говорила она, - я встану однажды ранои улечу в рассвет к Смирнову моему Степану».
«Думаете, - говорила, - самолеты разве долетают до рая?У них же выбросы, топливный след, отрава сплошная,а вот я на лодочке моей полечу,да за лес, за поле на ней полечу,полечу по солнечному лучу…».
Двадцать первый век, в библиотеке есть Интернет,выяснили, конечно, что шансов нет,но почему-то смотрели,почему-то ей не мешали,как она в расписанной розами шализабивает гвозди, паяет пластик.Добрый вечер, Александра Петровна, помочь ли чего, здрасте.
Просто однажды она закончила эту лодочку,птиченьку свою, перепелочку,и все собралисьтак на площади и стояли,словно гипсовые советские изваяния,а она в свою лодочку забралась,надела очки, сощурила глази полетела.
И как она летела, боже мой, как она летела.
***
Санитарка сказала: умерла бабка из третьей.Мы натянули перчатки и пошли.У нее был лик, проваливающийся в бесцветье,И глаза запавшие, как столетние,Открытые, но не глядящие.И кожа цвета земли.
Оля пощупала пульс и прошептала: "Живая".Мы вышли из палаты, где спали женщины.И было понятно, что на одну меньшеИх станет вот-вот. Но пока что она у края,Не уходит, глядит в свое страшное никуда, и
Оля ещё сказала: "Прямо не верится.Думала, вчера умрет. Я уже вызвала реанимацию,Но пока ждала ее - походу, запустила сердце,Теперь вот дышит и мается".
Я ее так и запомнила, ждущую умирания,Обесцветившуюся, вперенную глазами в юность.Оля сказала: "А бумаги надо подготовить заранее".А старуха молчала и думала, что раньше бояласьНагрешить, ошибиться, вызвать Господню ярость,А теперь вот лежала и совсем ничего не боялась.Так удивительно, Господи, совсем ничего.
***
Говорила медсестра Оксана, когда мы курили:- А ведь поступала же на пиар, и горя б не знала.Вскидывалась умирающая старуха в запахе гнили,И Оксана бежала ставить укол, подтыкать одеяло.А она глазастая такая, смешливая, круглолицая,А вокруг гниют и умирают, страшно, в сне не приснится,А Оксана такая: ну чего, ну сама же выбирала больницу.Когда рассветает, над тюльпанами во дворе запевают птицы.
О, если бы вы видели эти тюльпаны!После суточной смены к ним выходишь, как пьяный,Нюхаешь, чтобы убедиться, что ты на этом свете,И они прекраснее, чем котята, щенки и дети.
А мы курили, потом привезли бомжа,И Оксана что-то ему вколола, велела лежать,И он глядел на чистую койку, на эту Оксану,И, кажется, плакал, но было темно, так что врать не стану.
Когда Бог решит, что хватит нам, правда, жить,Тут-то и выйдут вшивые эти бомжи,Загнивающие изнутри старухи с гангреной,Наркоманы с тощими лицами, тонкими венами.
И будет их войско от края до края, войско полуживое,И тут-то Бог, конечно, вспомнит: Оксана.Оксаны.Развернется, махнет рукою:Живите, мол, дальше, никого я трогать не стану.
***
Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе:нет никакого разложения с гнилостным вкусом,нет внутри человека угасания никакого,а только мороженое на площади на руках у папы,запах травы да горячей железной подковы,березовые сережки, еловые лапы.Только вот это мы носим в себе, Юра,смотри, я по небу рассыпал красные звезды,швырнул на небо от Калининграда и до Амура,исключительно для радости, Юра,ты же всегда понимал, как все это просто.Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаемо том, что спрятано у человека внутри.Никакого секрета у этого, никаких тайн,прямо как вернешься – так всем сразу и говори,что не смерть, а яблонев цвет у человека в дыхании,что человек – это дух небесный, а не шакалий,так им и рассказывай, Юра, а про меня не надо.И еще, когда будешь падать –не бойся падать.
***
Я не знаю, за что меня можно любитьи можно ли любить вообще.Но лишенный сомнений, тревог и обидколокольный звон над Москвой летит,словно камень, раскрученный на праще.
И взрезает землю снизу стрелаландыша, который будет цвести,несмотря на нашу суету и дела,и на то, что тень на Москву легла,и я говорю: прости.
Этот звон летит по пустой Москве,зараженным кварталам ее,в каждый двор заходит, в каждую дверь,по квартирам, палатам, - и в головеУтешальную песню поёт.
Никто не называл еебабой Шурой –исключительно Александрой Петровной,бывало, как выйдет она за калитку,как пойдет со спиною ровной,как у студенточки,так и матерятся восхищенно вслед,как и не бывало шестидесяти лет.
А судьба как у всех, чего там такого,вышла замуж рано за тракториста Смирнова,смирным и был, любил ее, помер в сорокпосадила шиповник и астры на земляной взгорок.
Учила детей в школе, своих пацанов растила,ухажеры, конечно, были:как пойдет она вечером по долине стылой,по мареву из полыни, так сердце станет,пригласить бы на танец,да она все с детишками,а если не с ними, то с книжками.
А как вышла на пенсию, так чего начала:Набрала стройматериалов, фанеры, стеклаи принялась мастеритьлетательный аппарат без топливного тягла.По-простому – лодчонку и два крыла.
Объясняла про экологию,дескать, время нефти ушло,дескать, как прекрасно будет летать в магазинв соседнее, к примеру, село.«А потом, - говорила она, - я встану однажды ранои улечу в рассвет к Смирнову моему Степану».
«Думаете, - говорила, - самолеты разве долетают до рая?У них же выбросы, топливный след, отрава сплошная,а вот я на лодочке моей полечу,да за лес, за поле на ней полечу,полечу по солнечному лучу…».
Двадцать первый век, в библиотеке есть Интернет,выяснили, конечно, что шансов нет,но почему-то смотрели,почему-то ей не мешали,как она в расписанной розами шализабивает гвозди, паяет пластик.Добрый вечер, Александра Петровна, помочь ли чего, здрасте.
Просто однажды она закончила эту лодочку,птиченьку свою, перепелочку,и все собралисьтак на площади и стояли,словно гипсовые советские изваяния,а она в свою лодочку забралась,надела очки, сощурила глази полетела.
И как она летела, боже мой, как она летела.
***
Санитарка сказала: умерла бабка из третьей.Мы натянули перчатки и пошли.У нее был лик, проваливающийся в бесцветье,И глаза запавшие, как столетние,Открытые, но не глядящие.И кожа цвета земли.
Оля пощупала пульс и прошептала: "Живая".Мы вышли из палаты, где спали женщины.И было понятно, что на одну меньшеИх станет вот-вот. Но пока что она у края,Не уходит, глядит в свое страшное никуда, и
Оля ещё сказала: "Прямо не верится.Думала, вчера умрет. Я уже вызвала реанимацию,Но пока ждала ее - походу, запустила сердце,Теперь вот дышит и мается".
Я ее так и запомнила, ждущую умирания,Обесцветившуюся, вперенную глазами в юность.Оля сказала: "А бумаги надо подготовить заранее".А старуха молчала и думала, что раньше бояласьНагрешить, ошибиться, вызвать Господню ярость,А теперь вот лежала и совсем ничего не боялась.Так удивительно, Господи, совсем ничего.
***
Говорила медсестра Оксана, когда мы курили:- А ведь поступала же на пиар, и горя б не знала.Вскидывалась умирающая старуха в запахе гнили,И Оксана бежала ставить укол, подтыкать одеяло.А она глазастая такая, смешливая, круглолицая,А вокруг гниют и умирают, страшно, в сне не приснится,А Оксана такая: ну чего, ну сама же выбирала больницу.Когда рассветает, над тюльпанами во дворе запевают птицы.
О, если бы вы видели эти тюльпаны!После суточной смены к ним выходишь, как пьяный,Нюхаешь, чтобы убедиться, что ты на этом свете,И они прекраснее, чем котята, щенки и дети.
А мы курили, потом привезли бомжа,И Оксана что-то ему вколола, велела лежать,И он глядел на чистую койку, на эту Оксану,И, кажется, плакал, но было темно, так что врать не стану.
Когда Бог решит, что хватит нам, правда, жить,Тут-то и выйдут вшивые эти бомжи,Загнивающие изнутри старухи с гангреной,Наркоманы с тощими лицами, тонкими венами.
И будет их войско от края до края, войско полуживое,И тут-то Бог, конечно, вспомнит: Оксана.Оксаны.Развернется, махнет рукою:Живите, мол, дальше, никого я трогать не стану.
***
Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе:нет никакого разложения с гнилостным вкусом,нет внутри человека угасания никакого,а только мороженое на площади на руках у папы,запах травы да горячей железной подковы,березовые сережки, еловые лапы.Только вот это мы носим в себе, Юра,смотри, я по небу рассыпал красные звезды,швырнул на небо от Калининграда и до Амура,исключительно для радости, Юра,ты же всегда понимал, как все это просто.Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаемо том, что спрятано у человека внутри.Никакого секрета у этого, никаких тайн,прямо как вернешься – так всем сразу и говори,что не смерть, а яблонев цвет у человека в дыхании,что человек – это дух небесный, а не шакалий,так им и рассказывай, Юра, а про меня не надо.И еще, когда будешь падать –не бойся падать.
***
Я не знаю, за что меня можно любитьи можно ли любить вообще.Но лишенный сомнений, тревог и обидколокольный звон над Москвой летит,словно камень, раскрученный на праще.
И взрезает землю снизу стрелаландыша, который будет цвести,несмотря на нашу суету и дела,и на то, что тень на Москву легла,и я говорю: прости.
Этот звон летит по пустой Москве,зараженным кварталам ее,в каждый двор заходит, в каждую дверь,по квартирам, палатам, - и в головеУтешальную песню поёт.
Дарья верясова
Подборка 788
Подборка 788
Мартовский снег
Весна, весна, забудем о весне.
И бог бы с ней,
зато нам светит снег,
и умолкают звуки ― те и эти,
явился белый воздух тут как тут,
и дворники, как дворники, метут,
и дети кувыркаются, как дети.
Да будет снег! Блаженство и покой
в любой степи, над полем и рекой,
где голосит земля и пляшет рыба,
где поднимают плечи города,
и где весны не будет никогда,
там никогда весны не будет ибо.
***
Такое дело: високосный год -Я не умру, а кто-нибудь умрёт.Я допою, а кто-нибудь не станет.А кто-то станет тишиной хрустальной –У музыки мы все наперечёт.Такое дело – високосный год.Там, на границе времени и тьмыПоодиночке замолкаем мы.Но я рыбак, и я хожу по краю.И потому, мерцая и звеня,Чужая память смотрит на меняИ белой рыбой бьётся над мирами:Словами, именами, номерами,Всем драгоценным, стихнувшим, немым!И прячется под наледью налим,Уходят звуки в направленье рая,Но вовсе кто-нибудь не умирает,Раз плачет рыба белая над ним.
***
От тех детей, что не явились в мир,Не получаем сообщений мы,И нет от них ни почерка, ни взгляда,А только тишина и пустота,Как ветер ледяной, проходят рядом.Я знать желаю то, что знать не надо:Что есть предел у жизни, есть черта,Великий крик, святая немота, ―Что до судьбы, то нет её, судьбы, ―Но в середине кованой ограды ―Детей моих растущие дубы,Опутанные диким виноградом.
Они взойдут, когда меня не станет.Один в Чечне, другой в Афганистане.
***
В тот год, когда Елена умерла,Когда из рук моих исчезла сила,Мария пела и вино пила,А я прощенья у неё просила.
Я злой была, я горечью была,Была словами самыми простыми.В тот год, когда Елена умерла,Мария отвернулась от пустыни.
Кимвал звучал, тоской звенела медь,И всякой твари делалось обидно.Поскольку очевидна стала смерть,Любовь наоборот ― неочевидна.
Меня поила болью из горлаРука, которой доверяла слепо.В тот год, когда Елена умерла,И я за нею потянулась следом.
Она вверху, как облако, плыла.Вокруг меня песком лежало тело.Мария пела и вино пила.
***
И в миг, когда война кончается,От жизни той, от смерти тойВолна качается, качается,Плывёт кораблик золотой.
Мы смотрим за борт или на небо,И это всё, и это всё.А он плывёт себе куда-нибудь,И нас куда-нибудь несёт.
Ещё не позабылось лишнее,И жаждой мучились тела,Но только музыка не слышалась,Она взаправдашней была.
Сквозь наваждение запойноеСверкали светом паруса,Мы различили, мы запомнилиДалёких певчих голоса.
***
Бессмысленно и незаслуженно,Но хорошоВсё то, что на земле разбуженнойПроизошло.
Рябит вода в осоке утренней.Где дно темней,Там рыба бьется перламутровоСреди камней.
Поют и лают твари парные.С ягнёнком ― лев.Нет у земли могильной памяти,Но зреет хлеб.
А яблоко, гнилое, позднее,Пускает сок.И больше ничего не создано,
И вышел срок.
***
По Енисею сплавляют лес и теряют брёвна.Брёвна потом мужики вылавливают, из местных.Какие-то топляки достигают моря,Дальнейшая их судьба неизвестна.Топляки ― это те, что прошли и топор, и воду,Самое прочное дерево, из железа.И когда они вырываются на свободу,Знаешь, что строит море из нашего леса?..
Можно расти, всем берегом помня время:То ледостав, то ледоход, а то сплавы.Лето, похожее на смолу, смородину и тайменя.Зиму, срастившую этот берег и правый.
Мальчика, что пропал за тем перевалом.Женщину, что утопла за тем порогом.Если весной земляники бывает мало,Значит, потом грибов уродится много.
Зверь не почешет спину, метнётся тенью,Линия гор ― то прямою, то непрямою.Корни из нашей земли не выдернешь, только телоПадает, падает и уплывает к морю.
***Всё должно повториться, должно повториться сначала.Как большая вода города на ладонях качала.Забывая о смерти, вставала земля на рассвете,Чтобы спали как дети её бестолковые дети.
Накрывала туманом, во влажных ладонях сжимала.Здесь большая вода никогда не становится малой.Сила сильным, улов рыбаку и покой для изгоя.Всё опять повторится, из радости выйдет, из горя.
На рассвете не знают о смерти ни горы, ни город,И большая вода набегает с волною под самое горло.Браконьерские сети и чайка, крикливая птица.Всё должно повториться на свете, должно повториться.
И бог бы с ней,
зато нам светит снег,
и умолкают звуки ― те и эти,
явился белый воздух тут как тут,
и дворники, как дворники, метут,
и дети кувыркаются, как дети.
Да будет снег! Блаженство и покой
в любой степи, над полем и рекой,
где голосит земля и пляшет рыба,
где поднимают плечи города,
и где весны не будет никогда,
там никогда весны не будет ибо.
***
Такое дело: високосный год -Я не умру, а кто-нибудь умрёт.Я допою, а кто-нибудь не станет.А кто-то станет тишиной хрустальной –У музыки мы все наперечёт.Такое дело – високосный год.Там, на границе времени и тьмыПоодиночке замолкаем мы.Но я рыбак, и я хожу по краю.И потому, мерцая и звеня,Чужая память смотрит на меняИ белой рыбой бьётся над мирами:Словами, именами, номерами,Всем драгоценным, стихнувшим, немым!И прячется под наледью налим,Уходят звуки в направленье рая,Но вовсе кто-нибудь не умирает,Раз плачет рыба белая над ним.
***
От тех детей, что не явились в мир,Не получаем сообщений мы,И нет от них ни почерка, ни взгляда,А только тишина и пустота,Как ветер ледяной, проходят рядом.Я знать желаю то, что знать не надо:Что есть предел у жизни, есть черта,Великий крик, святая немота, ―Что до судьбы, то нет её, судьбы, ―Но в середине кованой ограды ―Детей моих растущие дубы,Опутанные диким виноградом.
Они взойдут, когда меня не станет.Один в Чечне, другой в Афганистане.
***
В тот год, когда Елена умерла,Когда из рук моих исчезла сила,Мария пела и вино пила,А я прощенья у неё просила.
Я злой была, я горечью была,Была словами самыми простыми.В тот год, когда Елена умерла,Мария отвернулась от пустыни.
Кимвал звучал, тоской звенела медь,И всякой твари делалось обидно.Поскольку очевидна стала смерть,Любовь наоборот ― неочевидна.
Меня поила болью из горлаРука, которой доверяла слепо.В тот год, когда Елена умерла,И я за нею потянулась следом.
Она вверху, как облако, плыла.Вокруг меня песком лежало тело.Мария пела и вино пила.
***
И в миг, когда война кончается,От жизни той, от смерти тойВолна качается, качается,Плывёт кораблик золотой.
Мы смотрим за борт или на небо,И это всё, и это всё.А он плывёт себе куда-нибудь,И нас куда-нибудь несёт.
Ещё не позабылось лишнее,И жаждой мучились тела,Но только музыка не слышалась,Она взаправдашней была.
Сквозь наваждение запойноеСверкали светом паруса,Мы различили, мы запомнилиДалёких певчих голоса.
***
Бессмысленно и незаслуженно,Но хорошоВсё то, что на земле разбуженнойПроизошло.
Рябит вода в осоке утренней.Где дно темней,Там рыба бьется перламутровоСреди камней.
Поют и лают твари парные.С ягнёнком ― лев.Нет у земли могильной памяти,Но зреет хлеб.
А яблоко, гнилое, позднее,Пускает сок.И больше ничего не создано,
И вышел срок.
***
По Енисею сплавляют лес и теряют брёвна.Брёвна потом мужики вылавливают, из местных.Какие-то топляки достигают моря,Дальнейшая их судьба неизвестна.Топляки ― это те, что прошли и топор, и воду,Самое прочное дерево, из железа.И когда они вырываются на свободу,Знаешь, что строит море из нашего леса?..
Можно расти, всем берегом помня время:То ледостав, то ледоход, а то сплавы.Лето, похожее на смолу, смородину и тайменя.Зиму, срастившую этот берег и правый.
Мальчика, что пропал за тем перевалом.Женщину, что утопла за тем порогом.Если весной земляники бывает мало,Значит, потом грибов уродится много.
Зверь не почешет спину, метнётся тенью,Линия гор ― то прямою, то непрямою.Корни из нашей земли не выдернешь, только телоПадает, падает и уплывает к морю.
***Всё должно повториться, должно повториться сначала.Как большая вода города на ладонях качала.Забывая о смерти, вставала земля на рассвете,Чтобы спали как дети её бестолковые дети.
Накрывала туманом, во влажных ладонях сжимала.Здесь большая вода никогда не становится малой.Сила сильным, улов рыбаку и покой для изгоя.Всё опять повторится, из радости выйдет, из горя.
На рассвете не знают о смерти ни горы, ни город,И большая вода набегает с волною под самое горло.Браконьерские сети и чайка, крикливая птица.Всё должно повториться на свете, должно повториться.
Калакин Денис
Подборка 783
Подборка 783
ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО
* * *
Философ в старости выписывает пчёл
из южной Франции, разводит орхидеи.
Другой бы кто-нибудь, возможно, это счёл
досужей прихотью, чудачеством, idee
fixe, но мыслитель наш, что вдумчиво прочёл
всех римлян с греками, а с ними иудеев
и прочих авторов, свои на этот счёт
представил выводы в обширнейшем труде и,
взяв под сомнение и разум, и прогресс,
утратил начисто научный интерес
к вопросам проклятым, им некогда искомым,
и в накомарнике уходит с головой
в мир обособленный, подробный и живой
цветов и запахов, к цветам и насекомым.
Homo erectus
грустно но что тут поделаешь болен и стар
память подводит и колики в области почек
принят на службу по просьбе жены секретарь
ровные зубы и каллиграфический почерк
он говорит герр профессор и чинно молчит
смотрит с прищуром на кончик ножа за обедом
но волноваться давно запретили врачи
тему закроем и думать не будем об этом
для размышлений есть масса материй иных
скажем строенье скелета австралопитека
данные крайне неполные следует их
классифицировать и занести в картотеку
как матерьял для доклада учёный совет
в эту декаду а вечер декабрьский недолог
кажется всё-таки мы тупиковая ветвь
как-то за чаем изрёк один палеонтолог
спорный и в общем ошибочный взгляд на предмет
траты не стоящий времени сил и бумаги
но и прямых доказательств обратного нет
что бы там ни утверждали коллеги в гааге
вы герр профессор увы вымирающий вид
надо признаться и скоро сойдёте со сцены
вон каменеет диван как в триас трилобит
и простыня холодна словно лёд плейстоцена
не в кого кинуть тяжёлый чернильный прибор
матерьялисту потомку того гоминида
а секретарь и жена это просто отбор
самый естественный путь эволюции вида
* * *
Палитра осени: вот охра, вот кармин,
немного сепии и мокрая сангина.
И хорошо бы затопить камин.
Но нет камина.
А славно было бы, накинув тёплый плед,
глядеть задумчиво на тлеющие угли,
тяжёлой кочергой на склоне лет
орудуя, чтоб не потухли.
Чего ещё желать? Табак и добрый эль.
В зрачках огня и мыслей отраженье.
И чутко вздрагивает рыжий спаниель,
во сне встревожен выстрелом ружейным.
Да, славно было бы… На деле всё не так.
На деле – кухня, жёлтые обои.
Вот ты сидишь, и в мыслях суета,
и тяжесть в печени, и в сердце перебои.
Камин отсутствует. Под потолком горит
лишь лампочка. Вот так на деле.
Несостоявшийся, похоже, сибарит
давно небрит и несколько похмелен.
Что тут сказать? Превратности судьбы,
непостижимые ни в частностях, ни в сумме.
А рыжий пёс… да, пёс когда-то был.
Но вот уже шестнадцать лет как умер.
* * *
Природа подражает пейзажисту...
О. Уайльд
Изгиб дороги виден из окна
простой просёлочной, теряющейся в чаще.
В пейзаже осенью случаются всё чаще
почти поленовский покой и глубина.
Цвета и линии в нём проступают те,
в которых чудится саврасовское что-то,
о чём не молвится без ре-минорной ноты
и прочих элегических затей.
В тамбовской иль саратовской глуши
леса безжизненные, где с дубов иль клёнов
слетает лист сухой и неодушевлённый,
но жизни полные и, всё-таки, души,
стоят притихшие, в безмолвии вопрос
скрывая: правильно ль всё вышло? краски те ли?
Грачи давно уже, конечно, улетели.
Но вот вам роща целая берёз.
И можно этой осени альбом
листать придирчиво, оценивать сурово.
Проплыло облако, почти как у Серова,
на небе суриковском серо-голубом.
К стеклу холодному прижавшись тёплым лбом,
следи внимательно, как точно и искусно
жизнь имитирует по-своему искусство
и подражает, в случае любом.
* * *
он просыпается поздно и варит кофе
изредка ходит в гости к одной модистке
по вечерам к луне обращает профиль
и изучает пятна на лунном диске
сидя со старым армейским биноклем в кресле
если объект наблюдений скрывают тучи
запись находит последнего матча челси
или из раннего что-нибудь бертолуччи
и в темноте под мерцанье и треск экрана
думает засыпая о жизни странной
думает что скучна а порой комична
в общем обычна по-своему гармонична
но быстротечна конечно же и конечна
Портрет неизвестного
Его бородка острая седа.
Такие точно, помнится, носили
тому лет двадцать, кажется, в России
поэты-символисты… Иногда,
надев сюртук потёртый тёмно-синий,
в восторг немалый он приводит дам,
на хриплом антикварном клавесине
в салоне N. играя по средам.
Неуловим акцент: «Гуно… Россини…
квартет для струнных ре минор… о, да…»
И вот куда-то в ночь через осенний
уходит парк, по лужам в корке льда,
рассеянно кивая чёрной псине,
что увязалась по его следам.
* * *
Соседа ль вызвать на дуэль?
Саша Соколов
Прослыть рискуя снобом пошлым,
сказать по чести, господа,
родиться в веке позапрошлом
хотел бы барином, о да:
тому назад лет этак двести
имел бы мелкое поместье
душ в полтораста за душой,
а также сад вишнёвый или
какой иной, чтоб приносили
доход, хотя б и небольшой.
Осенним днём по первопутку,
тирольским фетром осенив
главу беспечную, на утку
идти с ружьём вдоль сжатых нив,
присвистнув пса, каприза ради…
заряды к вечеру потратив
впустую (ствол, должно быть, крив),
шагать обратно, в ус не дуя,
пейзанку повстречав младую,
лобзать, за праздность пожурив.
К соседу съездить в шарабане
продолжить давний спор из-за
лужков и рощи иль за баней
палить в трефового туза…
дел, в общем, много: глянуть строго
на баб с высокого порога
и пару бородатых рож,
вздохнуть картинно: «всё не то-де»,
потом по аглицкой методе
взамен овса посеять рожь.
И, в ожиданье урожая
себя занять не зная чем,
поэтам старым подражая,
марать бумагу при свече:
сперва, в дождливую погоду,
кропать торжественную оду,
а там, глядишь, из-под пера,
итогом творческих усилий,
бежит уже в новейшем стиле:
«Мой дядя самых честных пра…»
Философ в старости выписывает пчёл
из южной Франции, разводит орхидеи.
Другой бы кто-нибудь, возможно, это счёл
досужей прихотью, чудачеством, idee
fixe, но мыслитель наш, что вдумчиво прочёл
всех римлян с греками, а с ними иудеев
и прочих авторов, свои на этот счёт
представил выводы в обширнейшем труде и,
взяв под сомнение и разум, и прогресс,
утратил начисто научный интерес
к вопросам проклятым, им некогда искомым,
и в накомарнике уходит с головой
в мир обособленный, подробный и живой
цветов и запахов, к цветам и насекомым.
Homo erectus
грустно но что тут поделаешь болен и стар
память подводит и колики в области почек
принят на службу по просьбе жены секретарь
ровные зубы и каллиграфический почерк
он говорит герр профессор и чинно молчит
смотрит с прищуром на кончик ножа за обедом
но волноваться давно запретили врачи
тему закроем и думать не будем об этом
для размышлений есть масса материй иных
скажем строенье скелета австралопитека
данные крайне неполные следует их
классифицировать и занести в картотеку
как матерьял для доклада учёный совет
в эту декаду а вечер декабрьский недолог
кажется всё-таки мы тупиковая ветвь
как-то за чаем изрёк один палеонтолог
спорный и в общем ошибочный взгляд на предмет
траты не стоящий времени сил и бумаги
но и прямых доказательств обратного нет
что бы там ни утверждали коллеги в гааге
вы герр профессор увы вымирающий вид
надо признаться и скоро сойдёте со сцены
вон каменеет диван как в триас трилобит
и простыня холодна словно лёд плейстоцена
не в кого кинуть тяжёлый чернильный прибор
матерьялисту потомку того гоминида
а секретарь и жена это просто отбор
самый естественный путь эволюции вида
* * *
Палитра осени: вот охра, вот кармин,
немного сепии и мокрая сангина.
И хорошо бы затопить камин.
Но нет камина.
А славно было бы, накинув тёплый плед,
глядеть задумчиво на тлеющие угли,
тяжёлой кочергой на склоне лет
орудуя, чтоб не потухли.
Чего ещё желать? Табак и добрый эль.
В зрачках огня и мыслей отраженье.
И чутко вздрагивает рыжий спаниель,
во сне встревожен выстрелом ружейным.
Да, славно было бы… На деле всё не так.
На деле – кухня, жёлтые обои.
Вот ты сидишь, и в мыслях суета,
и тяжесть в печени, и в сердце перебои.
Камин отсутствует. Под потолком горит
лишь лампочка. Вот так на деле.
Несостоявшийся, похоже, сибарит
давно небрит и несколько похмелен.
Что тут сказать? Превратности судьбы,
непостижимые ни в частностях, ни в сумме.
А рыжий пёс… да, пёс когда-то был.
Но вот уже шестнадцать лет как умер.
* * *
Природа подражает пейзажисту...
О. Уайльд
Изгиб дороги виден из окна
простой просёлочной, теряющейся в чаще.
В пейзаже осенью случаются всё чаще
почти поленовский покой и глубина.
Цвета и линии в нём проступают те,
в которых чудится саврасовское что-то,
о чём не молвится без ре-минорной ноты
и прочих элегических затей.
В тамбовской иль саратовской глуши
леса безжизненные, где с дубов иль клёнов
слетает лист сухой и неодушевлённый,
но жизни полные и, всё-таки, души,
стоят притихшие, в безмолвии вопрос
скрывая: правильно ль всё вышло? краски те ли?
Грачи давно уже, конечно, улетели.
Но вот вам роща целая берёз.
И можно этой осени альбом
листать придирчиво, оценивать сурово.
Проплыло облако, почти как у Серова,
на небе суриковском серо-голубом.
К стеклу холодному прижавшись тёплым лбом,
следи внимательно, как точно и искусно
жизнь имитирует по-своему искусство
и подражает, в случае любом.
* * *
он просыпается поздно и варит кофе
изредка ходит в гости к одной модистке
по вечерам к луне обращает профиль
и изучает пятна на лунном диске
сидя со старым армейским биноклем в кресле
если объект наблюдений скрывают тучи
запись находит последнего матча челси
или из раннего что-нибудь бертолуччи
и в темноте под мерцанье и треск экрана
думает засыпая о жизни странной
думает что скучна а порой комична
в общем обычна по-своему гармонична
но быстротечна конечно же и конечна
Портрет неизвестного
Его бородка острая седа.
Такие точно, помнится, носили
тому лет двадцать, кажется, в России
поэты-символисты… Иногда,
надев сюртук потёртый тёмно-синий,
в восторг немалый он приводит дам,
на хриплом антикварном клавесине
в салоне N. играя по средам.
Неуловим акцент: «Гуно… Россини…
квартет для струнных ре минор… о, да…»
И вот куда-то в ночь через осенний
уходит парк, по лужам в корке льда,
рассеянно кивая чёрной псине,
что увязалась по его следам.
* * *
Соседа ль вызвать на дуэль?
Саша Соколов
Прослыть рискуя снобом пошлым,
сказать по чести, господа,
родиться в веке позапрошлом
хотел бы барином, о да:
тому назад лет этак двести
имел бы мелкое поместье
душ в полтораста за душой,
а также сад вишнёвый или
какой иной, чтоб приносили
доход, хотя б и небольшой.
Осенним днём по первопутку,
тирольским фетром осенив
главу беспечную, на утку
идти с ружьём вдоль сжатых нив,
присвистнув пса, каприза ради…
заряды к вечеру потратив
впустую (ствол, должно быть, крив),
шагать обратно, в ус не дуя,
пейзанку повстречав младую,
лобзать, за праздность пожурив.
К соседу съездить в шарабане
продолжить давний спор из-за
лужков и рощи иль за баней
палить в трефового туза…
дел, в общем, много: глянуть строго
на баб с высокого порога
и пару бородатых рож,
вздохнуть картинно: «всё не то-де»,
потом по аглицкой методе
взамен овса посеять рожь.
И, в ожиданье урожая
себя занять не зная чем,
поэтам старым подражая,
марать бумагу при свече:
сперва, в дождливую погоду,
кропать торжественную оду,
а там, глядишь, из-под пера,
итогом творческих усилий,
бежит уже в новейшем стиле:
«Мой дядя самых честных пра…»
Дьяконов Евгений
Подборка 738
Подборка 738
***
На первый взгляд всё было хорошо:
ЗП пришла и старый друг зашёл.
Собрали стол, бухаем, не спеша.
Но дочка тихо в комнату вошла
и говорит мне голосом жены:
"Не ешь с ножа».
***
Выходные отпраздновав метко,Пересяду на синюю ветку.Мне две школьницы место уступят, улыбнусь им –хороший поступок.Задремлю, предвкушая осечку, мне приснятся Дантес и Данзас. Там в туннеле – Просвет и Парнас,Что же вы всё про Чёрную речку..?
***
Не хватает на деревьях инея,
снега под ногами не хватает.
Я сражаюсь с ангелом уныния –
он меня ручищами хватает,
мне на плечи чудище садится,
шепчет, шепчет на ухо печаль.
Я убил бы этого садиста!
Рубанул бы радостью с плеча!
Потому что – кто такое стерпит?
Протекает жизнь без баловства,
и одна лишь терпкая Эвтерпа
сохраняет привкус Рождества.
***
Иней – чуждый, как слово "ихний",
нашуршаться я не успел.
Отвези меня в тихий Тихвин,
что как белая скатерть бел.
Ни к чему предавать огласке
мой побег, потому что там
я уверенно, без опаски
выпью двести, ну триста грамм,
на свободе, а не в завязке,
наплевав на попутный хлам,
мы окажемся в нашей сказке
и войдём в монохромный Храм.
Поля Куликова
Её тут знает каждая корова, Хотя в Москву, как многие, могла Уехать наша Поля Куликова, Иконку взяв из красного угла.
Страстями и безделием влекома, Сшалавилась, Господь её спаси, Девчонка наша, Поля Куликова, Мигрируя в Россию из Руси.
Сама себя всё топит, топит, топит В трясине непролазной и густой, А водочка — не более чем допинг, Дешёвый, эффективный и простой.
О, сколько же в глазах девичьих боли, Усталости, хронической тоски! Свои, чужие — все лежат на Поле, И все мы ей по-своему близки.
Когда в затишье жить совсем хреново И вражьи морды смотрят из газет, Выходит в поле Поля Куликова И ждёт, когда вернётся Пересвет...
***
На диету садился мужик и от злости качался на стуле, и практически мунковский крик зарождался в обрюзгшей фигуре.
Он пытался не помнить фастфуд и забыть про холодное пиво, но когда свежесорванный фрукт принесла ему женщина, ива
за окном зарыдала навзрыд, и фруктовая плоть захрустела. То ли идиш, а то ли иврит обладатель невкусного тела
услыхал и почуял нутром, что ошибка страшна и нелепа. И теперь каждый день у метро телефоны паленые Aррlе
продаем мы: угрюмый толстяк и помятая жизнью блудница. Люди добрые, ради Христа, ну не надо над нами глумиться!
***
спинка кроватистуча о стенурождала ритм
женские стоныперекликаясь с мужскимибыли рифмой
дыханье – созвучием
сплетённые пальцы держалиэту движущуюсяконструкциюнад постелью
прямоугольнойи белой каклист А4
Интервью
Я шёл на прогулку иную,Но снова к бомжам и ворью, Привёл себя сам на СеннуюИ дал сам себе интервью.Шутил остроумно и тонко,Но чувствовал: как ни крутиОно – репетиция только,Допроса, что ждёт впереди.
***
Так много и хлеба, и зрелищ
доступно в полуночный час!
Захочешь – легко озвереешь,
спустившись на лифте в магаз.
Я с вами, друзья дорогие,
однако тревожит одно:
мне зрелища ближе другие,
другие –
и хлеб,
и вино...
***
По крайней мере в новом мире
совсем другие ништяки,
вот например: в своей квартире
сидишь, не лезешь на штыки
страстей, сомнений, мимо, мимо
плывёт за окнами дурдом,
а ты пьёшь кофе растворимый
и ощущаешь: 3 в 1
На первый взгляд всё было хорошо:
ЗП пришла и старый друг зашёл.
Собрали стол, бухаем, не спеша.
Но дочка тихо в комнату вошла
и говорит мне голосом жены:
"Не ешь с ножа».
***
Выходные отпраздновав метко,Пересяду на синюю ветку.Мне две школьницы место уступят, улыбнусь им –хороший поступок.Задремлю, предвкушая осечку, мне приснятся Дантес и Данзас. Там в туннеле – Просвет и Парнас,Что же вы всё про Чёрную речку..?
***
Не хватает на деревьях инея,
снега под ногами не хватает.
Я сражаюсь с ангелом уныния –
он меня ручищами хватает,
мне на плечи чудище садится,
шепчет, шепчет на ухо печаль.
Я убил бы этого садиста!
Рубанул бы радостью с плеча!
Потому что – кто такое стерпит?
Протекает жизнь без баловства,
и одна лишь терпкая Эвтерпа
сохраняет привкус Рождества.
***
Иней – чуждый, как слово "ихний",
нашуршаться я не успел.
Отвези меня в тихий Тихвин,
что как белая скатерть бел.
Ни к чему предавать огласке
мой побег, потому что там
я уверенно, без опаски
выпью двести, ну триста грамм,
на свободе, а не в завязке,
наплевав на попутный хлам,
мы окажемся в нашей сказке
и войдём в монохромный Храм.
Поля Куликова
Её тут знает каждая корова, Хотя в Москву, как многие, могла Уехать наша Поля Куликова, Иконку взяв из красного угла.
Страстями и безделием влекома, Сшалавилась, Господь её спаси, Девчонка наша, Поля Куликова, Мигрируя в Россию из Руси.
Сама себя всё топит, топит, топит В трясине непролазной и густой, А водочка — не более чем допинг, Дешёвый, эффективный и простой.
О, сколько же в глазах девичьих боли, Усталости, хронической тоски! Свои, чужие — все лежат на Поле, И все мы ей по-своему близки.
Когда в затишье жить совсем хреново И вражьи морды смотрят из газет, Выходит в поле Поля Куликова И ждёт, когда вернётся Пересвет...
***
На диету садился мужик и от злости качался на стуле, и практически мунковский крик зарождался в обрюзгшей фигуре.
Он пытался не помнить фастфуд и забыть про холодное пиво, но когда свежесорванный фрукт принесла ему женщина, ива
за окном зарыдала навзрыд, и фруктовая плоть захрустела. То ли идиш, а то ли иврит обладатель невкусного тела
услыхал и почуял нутром, что ошибка страшна и нелепа. И теперь каждый день у метро телефоны паленые Aррlе
продаем мы: угрюмый толстяк и помятая жизнью блудница. Люди добрые, ради Христа, ну не надо над нами глумиться!
***
спинка кроватистуча о стенурождала ритм
женские стоныперекликаясь с мужскимибыли рифмой
дыханье – созвучием
сплетённые пальцы держалиэту движущуюсяконструкциюнад постелью
прямоугольнойи белой каклист А4
Интервью
Я шёл на прогулку иную,Но снова к бомжам и ворью, Привёл себя сам на СеннуюИ дал сам себе интервью.Шутил остроумно и тонко,Но чувствовал: как ни крутиОно – репетиция только,Допроса, что ждёт впереди.
***
Так много и хлеба, и зрелищ
доступно в полуночный час!
Захочешь – легко озвереешь,
спустившись на лифте в магаз.
Я с вами, друзья дорогие,
однако тревожит одно:
мне зрелища ближе другие,
другие –
и хлеб,
и вино...
***
По крайней мере в новом мире
совсем другие ништяки,
вот например: в своей квартире
сидишь, не лезешь на штыки
страстей, сомнений, мимо, мимо
плывёт за окнами дурдом,
а ты пьёшь кофе растворимый
и ощущаешь: 3 в 1
Герман Титов
Подборка 724
Подборка 724
Кормить кота
***
Кормить кота, и ничего не трогать —
Первейший чин земного бытия,
Единственная верная дорога,
Где нет ни обольщенья, ни вранья.
Нет обещаний, поздних писем, ветра
Ночных дорог, и расставаний нет,
На этих берегах довольно света,
Чтоб солнцу игнорировать рассвет.
Чтоб не бродить от Пряжки до Фонтанки,
От Мойки до канала и моста;
Нет никакого смысла в перебранке
Буксиров на Неве. Корми кота.
Не выходи из дома без таланта,
Не порицай Жозефовых длиннот,
Не повторяй ошибок эмигранта,
Корми кота. Не критикуй Синод,
И не брани Сенат, храни присягу
Своей несуществующей стране.
Корми кота. А поведут к оврагу,
Не отступай, храни её вдвойне.
Корми кота, как, верно, делал Киплинг,
Над бездной, на войне, весь долгий век,
Останься верен вдовствующей скрипке,
Тогда, my god, ты будешь человек.
С той стороны — Васильевский и Биржа,
За гранью забытья и бытия,
Прекрасней Авалона и Парижа
Весенняя империя твоя.
Там — Ксении часовня с чудесами,
Румянцова победная игла,
За линиями там, за адресами,
Истории несбывшаяся мгла.
С той стороны — владенья Прозерпины,
А ты ведь жив, такое озорство.
И, оставляя вечности руины,
Корми кота. Не трогай ничего.
***
У музыки есть имя.
Что говорить о нём?
Поговорим о дыме
Отечества, с огнём
Срифмованных в сознаньи,
Где после стольких лет
Остались поминанья,
А помнящего нет.
Отечество беспечно,
Как праздник, что всегда
С тобой. Не будет встречи,
Но будут провода,
И проводы, и песни,
И небо — по войне.
В истории нам тесно
И бесприютно вне.
Вот Гоголь умирает,
И Псёл, и Ахерон
Темнеют где-то с краю
Условных похорон.
Всё стало общим местом,
Как во языцех мем;
Земное неуместно
В мерцаньи Божьих схем.
Всё сбудется — с другими,
И главный смысл всего:
У музыки есть имя,
Не поминай его.
***
Ту родину мы не любили,
До этой — года и снега,
Мосты, разведённые былью,
Обеих столиц берега.
Неловкого детства вопросы,
Забывшиеся на ходу,
Холодный цветок абрикоса
В размытом забвеньем саду.
На школьном плацу перемены,
Базар и собор, и забор,
Белёные леностью стены,
Железнодорожный простор.
Ампира советского вазы
В запущенном парке, во сне,
Трёхмерных агиток каркасы,
Бессонный каштан по весне.
Мы предали и распродали
Отечество, здесь его нет.
Остались столетья и дали,
Империи чёрствый билет,
Мелодия гимна и грядки,
Осенних огней звукоряд.
Все перечисленья навряд ли
Кого-то умиротворят.
И свёрстаны вёрсты-апроши,
И ветреней на рубеже.
И ты никуда не вернёшься,
Поскольку вернулся уже.
***
От каштана, во тьме, под окном —
Лучший вид на Михайловский замок.
Оттого говорю об одном
Я теперь, об ушедшем, о самом
Главном, что не предать, как ни ври,
Об оставшемся, мёртвом, нетленном,
Как на Мойке ночной фонари,
Как на Стрелке — фабричные стены.
Время плавно плывёт по волнам
Многоцветным куском целлофана,
И, наверное, это не странно,
Что давно здесь другая страна,
И другие печалят печали,
И другие невестятся сны,
И мы сможем увидеть едва ли
Давний двор той, погибшей, страны.
И кусты перекрёстной сирени
Не расскажут уже ничего,
Летний сад подзабыл наши тени,
Да и мы не узнаем его.
Наш условный кораблик отчалил,
Только пристани нет на Земле,
И светлеют заневские дали,
Словно лист на рабочем столе.
Нет уже ничего наносного
На дощатых скамьях тишины,
Всё из тьмы возвращается снова,
Словно переложенье весны,
Словно дождь был, и кончился ночью,
И к утру чуть прохладней. Тогда
Нашей Юности мраморной очи
Открывает живая вода.
***
Львиный мост
Руки отыщут поручни,
Тяжести — пустоту.
Лунной выдуман полночью
Человек на мосту,
Зыбкий, как дань инверсии.
Львы охраняют тьму,
Вздохов чугунных вервии,
Всё, что нужно ему.
Прочь течёт рефлекторная
Память глухих камней,
Тайн череда повторная,
Что тебе, путник, в ней?
Что тебе, путник, в спутанном,
Словно этот канал,
Смысле, и в мёртвом спутнике,
Склеенном из зеркал?
Жил здесь когда-то Ва́гинов,
А теперь — никого,
Остаётся лишь магия
Мельничных жерновов
Грустной русской истории,
Гулкой русской тоски.
Холодно? Да, не более.
Фабуле вопреки
Тени ши-цза качаются,
Смутно с той стороны.
Чайки, твои печальницы,
Не потревожат сны.
Неуч отыщет коуча,
Сталь воплотит мечту.
Стал пустотой и полночью
Человек на мосту.
Не заслужив прощения,
Станет звездой зерно.
Жизнь — всегда возвращение,
Меньшего не дано.
Кормить кота, и ничего не трогать —
Первейший чин земного бытия,
Единственная верная дорога,
Где нет ни обольщенья, ни вранья.
Нет обещаний, поздних писем, ветра
Ночных дорог, и расставаний нет,
На этих берегах довольно света,
Чтоб солнцу игнорировать рассвет.
Чтоб не бродить от Пряжки до Фонтанки,
От Мойки до канала и моста;
Нет никакого смысла в перебранке
Буксиров на Неве. Корми кота.
Не выходи из дома без таланта,
Не порицай Жозефовых длиннот,
Не повторяй ошибок эмигранта,
Корми кота. Не критикуй Синод,
И не брани Сенат, храни присягу
Своей несуществующей стране.
Корми кота. А поведут к оврагу,
Не отступай, храни её вдвойне.
Корми кота, как, верно, делал Киплинг,
Над бездной, на войне, весь долгий век,
Останься верен вдовствующей скрипке,
Тогда, my god, ты будешь человек.
С той стороны — Васильевский и Биржа,
За гранью забытья и бытия,
Прекрасней Авалона и Парижа
Весенняя империя твоя.
Там — Ксении часовня с чудесами,
Румянцова победная игла,
За линиями там, за адресами,
Истории несбывшаяся мгла.
С той стороны — владенья Прозерпины,
А ты ведь жив, такое озорство.
И, оставляя вечности руины,
Корми кота. Не трогай ничего.
***
У музыки есть имя.
Что говорить о нём?
Поговорим о дыме
Отечества, с огнём
Срифмованных в сознаньи,
Где после стольких лет
Остались поминанья,
А помнящего нет.
Отечество беспечно,
Как праздник, что всегда
С тобой. Не будет встречи,
Но будут провода,
И проводы, и песни,
И небо — по войне.
В истории нам тесно
И бесприютно вне.
Вот Гоголь умирает,
И Псёл, и Ахерон
Темнеют где-то с краю
Условных похорон.
Всё стало общим местом,
Как во языцех мем;
Земное неуместно
В мерцаньи Божьих схем.
Всё сбудется — с другими,
И главный смысл всего:
У музыки есть имя,
Не поминай его.
***
Ту родину мы не любили,
До этой — года и снега,
Мосты, разведённые былью,
Обеих столиц берега.
Неловкого детства вопросы,
Забывшиеся на ходу,
Холодный цветок абрикоса
В размытом забвеньем саду.
На школьном плацу перемены,
Базар и собор, и забор,
Белёные леностью стены,
Железнодорожный простор.
Ампира советского вазы
В запущенном парке, во сне,
Трёхмерных агиток каркасы,
Бессонный каштан по весне.
Мы предали и распродали
Отечество, здесь его нет.
Остались столетья и дали,
Империи чёрствый билет,
Мелодия гимна и грядки,
Осенних огней звукоряд.
Все перечисленья навряд ли
Кого-то умиротворят.
И свёрстаны вёрсты-апроши,
И ветреней на рубеже.
И ты никуда не вернёшься,
Поскольку вернулся уже.
***
От каштана, во тьме, под окном —
Лучший вид на Михайловский замок.
Оттого говорю об одном
Я теперь, об ушедшем, о самом
Главном, что не предать, как ни ври,
Об оставшемся, мёртвом, нетленном,
Как на Мойке ночной фонари,
Как на Стрелке — фабричные стены.
Время плавно плывёт по волнам
Многоцветным куском целлофана,
И, наверное, это не странно,
Что давно здесь другая страна,
И другие печалят печали,
И другие невестятся сны,
И мы сможем увидеть едва ли
Давний двор той, погибшей, страны.
И кусты перекрёстной сирени
Не расскажут уже ничего,
Летний сад подзабыл наши тени,
Да и мы не узнаем его.
Наш условный кораблик отчалил,
Только пристани нет на Земле,
И светлеют заневские дали,
Словно лист на рабочем столе.
Нет уже ничего наносного
На дощатых скамьях тишины,
Всё из тьмы возвращается снова,
Словно переложенье весны,
Словно дождь был, и кончился ночью,
И к утру чуть прохладней. Тогда
Нашей Юности мраморной очи
Открывает живая вода.
***
Львиный мост
Руки отыщут поручни,
Тяжести — пустоту.
Лунной выдуман полночью
Человек на мосту,
Зыбкий, как дань инверсии.
Львы охраняют тьму,
Вздохов чугунных вервии,
Всё, что нужно ему.
Прочь течёт рефлекторная
Память глухих камней,
Тайн череда повторная,
Что тебе, путник, в ней?
Что тебе, путник, в спутанном,
Словно этот канал,
Смысле, и в мёртвом спутнике,
Склеенном из зеркал?
Жил здесь когда-то Ва́гинов,
А теперь — никого,
Остаётся лишь магия
Мельничных жерновов
Грустной русской истории,
Гулкой русской тоски.
Холодно? Да, не более.
Фабуле вопреки
Тени ши-цза качаются,
Смутно с той стороны.
Чайки, твои печальницы,
Не потревожат сны.
Неуч отыщет коуча,
Сталь воплотит мечту.
Стал пустотой и полночью
Человек на мосту.
Не заслужив прощения,
Станет звездой зерно.
Жизнь — всегда возвращение,
Меньшего не дано.
Алёна Бабанская
Подборка 561
Подборка 561
Внутренняя Монголия
***
Зависнешь на обшарпанном вокзале,Где женщины с горящими глазамиС авоськами, с мужьями, и т.п.,Превратности дороги претерпев,Ругаются у кассы точно чайки.Но царственный кассир не отвечает,Не шевелит надменною губой,Как будто бы он шарик голубой.Похоже, не выходит он из трансаИ зрит миры, куда не ходит транспорт.Билетов нет, не надобен транзит.И вечностью из форточки разит.
***
Положишь девочку в огонь,А ей не больно.Положишь девочку нагой,А ей забава.Такое время вспомянет, такие войны,Такие песни пропоет про бой кровавый,Что будет корчиться земляВ родильных схватках,Что может кончиться земля,Начаться воздух.Ах, сколько девочек горит,Красивых, сладких.В чернильной ночи ноября,И меркнут звезды.
***
Мне любо в Монголии внутренней
Свой кофе потягивать утренний.
Смотреть, как по небу страны
Верблюды плывут и слоны.
Как ветер нас делает полыми,
Свободными злыми (гла) монголами:
Идём от луны до луны,
Гоняя в степи табуны.
И дым поднимается кольцами,
И стадо гремит колокольцами.
В достатке кумыс и кошма.
И, кажется, смерть отошла.
***
Он тает, истончается,Уходит в мир теней.Ах, доска кончается,И ночи всё темней.Далась мне эта чёрнаяДурацкая доска,Считалочка никчёмная,Загробная тоска.Летит бычок загашенныйОт Агнии Барто.Пылят полями нашимиКонь блед и конь в пальто.
***
Вечереет. Роняют подсолнухи головы,
Будто в них темноты наливается олово.
Или золото. Не разберу.
Но подсолнечник будто кого-то сторонится,
Из-под шляпы своей никому не поклонится,
Не колыхнется на ветру.
А к нему подлетают
варвары и сенечки
Воровато полузгать незрелые семечки,
Покачаться в закатных лучах
И пока не сомкнулся туман над пенатами,
Здесь пирует незваная банда пернатая,
У подсолнухов лица луща.
***
Улиты тело нежное
В коробке костяной
Почует неизбежное
Спиральною спиной.
Тугие втянет усики,
Хоть взгляд беспечно-пуст.
Ах, платьице, ах, бусики,
Ах, виноградный куст.
***
А то, что Август-дурачок,И пары слов не свяжет,Зато целует горячоДа нежится на пляже.Затеет с кошкой чехарду,Вопя на всю округу.Он знает: я его найду,Поставлю в пятый угол.Блаженный этот Августин,То плачет, то, напротив.Вот потому и мы грустимПри каше и компоте.При огородных чудесах,При плачущем ребенке:Покуда бронзовки в часахВращают шестерёнки.
***
Это просто живая вода невесомости.У нее ни стыда никакого, ни совести.Отхлебнешь, и помашешь рукой, и поехали.Только космос такой - телевизор с помехами.Стоп-сигналы комет аварийно-погашены.На параде планет мы флажками помашем ли?Это просто живая вода, это вакуум.И плывешь в никуда, объясняешься знаками.
***
Трудно круглому быть квадратным.Проще котиком, птичкой, заей.Мама, как я хочу обратно!Мама знает.В силовое поле войду пшеницы,Как во внеземное пространство,Звуковой волной, корпускулою, зегзицей,Катериной, Ольгой, Настасьей.
***
Когда мы касались любви,Тогда мы казались людьми.А нынче мне стало казаться,Что мы перестали касаться.Наверное, это чума.Наверное, это зима.И хрупкость такая в природе,Как речку по льду переходим.
Зависнешь на обшарпанном вокзале,Где женщины с горящими глазамиС авоськами, с мужьями, и т.п.,Превратности дороги претерпев,Ругаются у кассы точно чайки.Но царственный кассир не отвечает,Не шевелит надменною губой,Как будто бы он шарик голубой.Похоже, не выходит он из трансаИ зрит миры, куда не ходит транспорт.Билетов нет, не надобен транзит.И вечностью из форточки разит.
***
Положишь девочку в огонь,А ей не больно.Положишь девочку нагой,А ей забава.Такое время вспомянет, такие войны,Такие песни пропоет про бой кровавый,Что будет корчиться земляВ родильных схватках,Что может кончиться земля,Начаться воздух.Ах, сколько девочек горит,Красивых, сладких.В чернильной ночи ноября,И меркнут звезды.
***
Мне любо в Монголии внутренней
Свой кофе потягивать утренний.
Смотреть, как по небу страны
Верблюды плывут и слоны.
Как ветер нас делает полыми,
Свободными злыми (гла) монголами:
Идём от луны до луны,
Гоняя в степи табуны.
И дым поднимается кольцами,
И стадо гремит колокольцами.
В достатке кумыс и кошма.
И, кажется, смерть отошла.
***
Он тает, истончается,Уходит в мир теней.Ах, доска кончается,И ночи всё темней.Далась мне эта чёрнаяДурацкая доска,Считалочка никчёмная,Загробная тоска.Летит бычок загашенныйОт Агнии Барто.Пылят полями нашимиКонь блед и конь в пальто.
***
Вечереет. Роняют подсолнухи головы,
Будто в них темноты наливается олово.
Или золото. Не разберу.
Но подсолнечник будто кого-то сторонится,
Из-под шляпы своей никому не поклонится,
Не колыхнется на ветру.
А к нему подлетают
варвары и сенечки
Воровато полузгать незрелые семечки,
Покачаться в закатных лучах
И пока не сомкнулся туман над пенатами,
Здесь пирует незваная банда пернатая,
У подсолнухов лица луща.
***
Улиты тело нежное
В коробке костяной
Почует неизбежное
Спиральною спиной.
Тугие втянет усики,
Хоть взгляд беспечно-пуст.
Ах, платьице, ах, бусики,
Ах, виноградный куст.
***
А то, что Август-дурачок,И пары слов не свяжет,Зато целует горячоДа нежится на пляже.Затеет с кошкой чехарду,Вопя на всю округу.Он знает: я его найду,Поставлю в пятый угол.Блаженный этот Августин,То плачет, то, напротив.Вот потому и мы грустимПри каше и компоте.При огородных чудесах,При плачущем ребенке:Покуда бронзовки в часахВращают шестерёнки.
***
Это просто живая вода невесомости.У нее ни стыда никакого, ни совести.Отхлебнешь, и помашешь рукой, и поехали.Только космос такой - телевизор с помехами.Стоп-сигналы комет аварийно-погашены.На параде планет мы флажками помашем ли?Это просто живая вода, это вакуум.И плывешь в никуда, объясняешься знаками.
***
Трудно круглому быть квадратным.Проще котиком, птичкой, заей.Мама, как я хочу обратно!Мама знает.В силовое поле войду пшеницы,Как во внеземное пространство,Звуковой волной, корпускулою, зегзицей,Катериной, Ольгой, Настасьей.
***
Когда мы касались любви,Тогда мы казались людьми.А нынче мне стало казаться,Что мы перестали касаться.Наверное, это чума.Наверное, это зима.И хрупкость такая в природе,Как речку по льду переходим.
Свищев Михаил
Подборка 344
Подборка 344
Лидокаин
* * *
Не поминай о детстве всуе,забудь, какого там числачерез линеечку косуюот скрепки ржавчина пошла до первых строчек, взятых с лёту,непарных точек и потерь,когда листы и переплётыперемешались, и теперь подобно рыжему соцветьюстолетника (и ты, мол, Брут)несовместимые со смертьюв тетрадках дырочки цветут.
***
Ни цвета, ни линии - только штрихи:Огузок лопаты, похожий на стремя(В свободное время он пишет стихи,Когда подступает свободное время
Под самое горло кирпичной водой,Листки расписаний несёт наводненьеДо чёрных решёток, трубящих отбойПопавшим под ливень, как хлеб под варенье).
Невесты бледней соляного столпа,Влюблённые вдовы желты от запора -Ему разрешается только копатьОт локтя к плечу, от беды до забора.
Молись, богохульствуй, реви, петушись,Здесь кротких удел - торопить бестолковыхНаследовать землю как новую жизньНа двух штыковых и четвёрке совковых.
Загадка
Она учит звон золотых монет повторять «у нас ничего нет», циферблат царапать стальным прутом, никогда откладывать на потом, перекрещивать кости среди игры, покидать жилища, пиры, миры, оборачивать туловище назад и не видеть собственный пыльный зад, быть одним – и тем же, когда вдвоём, притворяться ветошью, муравьём, волочащим спичку, как то бревно, в небоскрёб, где все муравьи в говно, умерять естественную прыть, жизнелюбом быть (вообще не быть), на бегу проскакивать этажи… Бог с тобою, милочка! – это жизнь.
Лидокаин
Девушка развязкою земноюповстречает утром, как во сне,по дороге к доброму зубномупринца на бензиновом коне.
Зашуршат октябрьские листья,разбежится в темпе вальс-бостонкак за счастьем, за мотоциклистомрыжий пес с восторженным хвостом.
Девушку с шестеркой слишком длинной,но с улыбкой киевской княжныуведет укол лидокаинав ту страну, где зубы не нужны,
не нужны колеса, лапы, трепет,только обещаний тонкий цинк,что её и там конечно встретятюноша, собака, мотоцикл.
***
На поворот зелёная стрела,
под шиной хруст алмазной мерзлой крошки,
и дребезги оконного стекла
на тоненькой асфальтовой дорожке.
Не ляжет блик на это полотно,
зато, смотри, – ни пятнышка, ни скола,
всё, что до рамы недонесено –
нетронуто, таинственно и голо,
хотя луну уже не отразит
под утро в интерьере чьей-то спальни,
оно, стекло, как всякий sic transit,
само на гранях светится зеркальней
любой луны, любви любой
и той, что отразить любившее не в силах,
кленовый листик прячется витой
в испуганных осколках желто-синих.
Пускай ты не узнаешь ни ножа
стекольщика, ни траурного ситца,
с пятнадцатого в полночь этажа
не взглянешь сквозь лицо самоубийцы,
не на тебе растает первый снег,
не твой сквозняк покажет дулю вате, –
ты раньше всех напомнишь о весне
на выметенном дочерна асфальте.
***
..Где всё моё - от сказки до дивана,Сквозь радио где сплю, где папа мамуНегромко окликает - "Нусь, а Нусь?" -(Зимой на дачу в августе вернусь),
Где под щекой отчаянье намокло,Крестами мир осаживают окнаИ скрип, как вскрик, слетает с потных рам.Где мне не разрешали по утрам
На выстуженной кухне умыватьсяИ с польскими дрались по рубль двадцатьИндейцами ковбойцы from Donetsk,Где без пистонной ленты, наконец,
Пылились под кроватью пистолеты,Девятое заканчивалось лето,Шёл дождик, как судьба, неумолим.А остальное не было моим.
***
Говоря об этом, кто о чёмдумает, прикидывает. Я жеверю, что как раньше на бочок,на кушетку свежую приляжешь,
в тёмном зале с мебелью инойпахнущее йодом и корицей,как сеанс повторного кино,детство на простынке повторится –
из гвоздей с резинкой самострел,стрелы с акварельной каплей яда,мультики… А дальше я смотрел,дальше и показывать не надо.
***
Ищейкой цельс свернётся возле ног,Луна заглянет в краповом берете,И за сугробом чёрный воронокВесны приедет.
В морковных окнах встанет детвораСледить сквозь тюль, как парочка горбатыхТаскает книги с тёмного двораНа двух лопатах.
Там звёзд над крышей как на ртах помад,И спутники, кивающие куце:- Моя прописка продлена по март...- Там разберутся.
Не унимая карандашный зуд,Они загнут про Прагу и про Вильно,Москву, Париж, - а после отвезутВ снегоплавильню.
***
А смерти нет, есть утки на пруду,Два мудака на утренней платформе,И незачем слюней пускать в дудуАрхангелам, одетым не по форме,
Ведь нет её, и нечего ловитьВыходит – ни за гробом, ни за морем,Чью соль пантин про-ви в любой кровиНе растворит, а бережно замоет.
Нет смерти, и любое тру-ру-руХрипит в динамик предвоенным спичемНа этом прохладительном ветруГде волосы капризнее, чем спички.
Огрызок одеяла теребя,Обрывки слов прихватывая горстью,Знай - нет её, а значит, ни тебя,Ни нас с тобой не ждут ни в рай, ни в гости.
И белый ваш не нужен кабинет,Раз смерти нет.
***
На карточке с трюмо, как в тёмном трюмевсё серо – и синтетика, и шерсть,как будто бы я в детстве просто умер,и мама всё оставила как есть с моим отцом – солдатика в буфете,и кубики, и со значками флаг,на тумбочке задорного медведя,за лоджией бушующий овраг, проигрыватель, плёночную деку,руль «мотылька», что бил меня под дых,и Брежнева, и Абэвэгэдэйку,самих себя, безумно молодых,
под гимн Союза в предрассветной рани –
такой вот вывих, вставленный в куплет,родительского нищего сознаньядлиною в сорок с половиной лет, – смотрю на них на всех, на вместе взятыхс поличным без билетов и монет,на это торжество семидесятыхнад временем, сводящим нас на нет.
Не поминай о детстве всуе,забудь, какого там числачерез линеечку косуюот скрепки ржавчина пошла до первых строчек, взятых с лёту,непарных точек и потерь,когда листы и переплётыперемешались, и теперь подобно рыжему соцветьюстолетника (и ты, мол, Брут)несовместимые со смертьюв тетрадках дырочки цветут.
***
Ни цвета, ни линии - только штрихи:Огузок лопаты, похожий на стремя(В свободное время он пишет стихи,Когда подступает свободное время
Под самое горло кирпичной водой,Листки расписаний несёт наводненьеДо чёрных решёток, трубящих отбойПопавшим под ливень, как хлеб под варенье).
Невесты бледней соляного столпа,Влюблённые вдовы желты от запора -Ему разрешается только копатьОт локтя к плечу, от беды до забора.
Молись, богохульствуй, реви, петушись,Здесь кротких удел - торопить бестолковыхНаследовать землю как новую жизньНа двух штыковых и четвёрке совковых.
Загадка
Она учит звон золотых монет повторять «у нас ничего нет», циферблат царапать стальным прутом, никогда откладывать на потом, перекрещивать кости среди игры, покидать жилища, пиры, миры, оборачивать туловище назад и не видеть собственный пыльный зад, быть одним – и тем же, когда вдвоём, притворяться ветошью, муравьём, волочащим спичку, как то бревно, в небоскрёб, где все муравьи в говно, умерять естественную прыть, жизнелюбом быть (вообще не быть), на бегу проскакивать этажи… Бог с тобою, милочка! – это жизнь.
Лидокаин
Девушка развязкою земноюповстречает утром, как во сне,по дороге к доброму зубномупринца на бензиновом коне.
Зашуршат октябрьские листья,разбежится в темпе вальс-бостонкак за счастьем, за мотоциклистомрыжий пес с восторженным хвостом.
Девушку с шестеркой слишком длинной,но с улыбкой киевской княжныуведет укол лидокаинав ту страну, где зубы не нужны,
не нужны колеса, лапы, трепет,только обещаний тонкий цинк,что её и там конечно встретятюноша, собака, мотоцикл.
***
На поворот зелёная стрела,
под шиной хруст алмазной мерзлой крошки,
и дребезги оконного стекла
на тоненькой асфальтовой дорожке.
Не ляжет блик на это полотно,
зато, смотри, – ни пятнышка, ни скола,
всё, что до рамы недонесено –
нетронуто, таинственно и голо,
хотя луну уже не отразит
под утро в интерьере чьей-то спальни,
оно, стекло, как всякий sic transit,
само на гранях светится зеркальней
любой луны, любви любой
и той, что отразить любившее не в силах,
кленовый листик прячется витой
в испуганных осколках желто-синих.
Пускай ты не узнаешь ни ножа
стекольщика, ни траурного ситца,
с пятнадцатого в полночь этажа
не взглянешь сквозь лицо самоубийцы,
не на тебе растает первый снег,
не твой сквозняк покажет дулю вате, –
ты раньше всех напомнишь о весне
на выметенном дочерна асфальте.
***
..Где всё моё - от сказки до дивана,Сквозь радио где сплю, где папа мамуНегромко окликает - "Нусь, а Нусь?" -(Зимой на дачу в августе вернусь),
Где под щекой отчаянье намокло,Крестами мир осаживают окнаИ скрип, как вскрик, слетает с потных рам.Где мне не разрешали по утрам
На выстуженной кухне умыватьсяИ с польскими дрались по рубль двадцатьИндейцами ковбойцы from Donetsk,Где без пистонной ленты, наконец,
Пылились под кроватью пистолеты,Девятое заканчивалось лето,Шёл дождик, как судьба, неумолим.А остальное не было моим.
***
Говоря об этом, кто о чёмдумает, прикидывает. Я жеверю, что как раньше на бочок,на кушетку свежую приляжешь,
в тёмном зале с мебелью инойпахнущее йодом и корицей,как сеанс повторного кино,детство на простынке повторится –
из гвоздей с резинкой самострел,стрелы с акварельной каплей яда,мультики… А дальше я смотрел,дальше и показывать не надо.
***
Ищейкой цельс свернётся возле ног,Луна заглянет в краповом берете,И за сугробом чёрный воронокВесны приедет.
В морковных окнах встанет детвораСледить сквозь тюль, как парочка горбатыхТаскает книги с тёмного двораНа двух лопатах.
Там звёзд над крышей как на ртах помад,И спутники, кивающие куце:- Моя прописка продлена по март...- Там разберутся.
Не унимая карандашный зуд,Они загнут про Прагу и про Вильно,Москву, Париж, - а после отвезутВ снегоплавильню.
***
А смерти нет, есть утки на пруду,Два мудака на утренней платформе,И незачем слюней пускать в дудуАрхангелам, одетым не по форме,
Ведь нет её, и нечего ловитьВыходит – ни за гробом, ни за морем,Чью соль пантин про-ви в любой кровиНе растворит, а бережно замоет.
Нет смерти, и любое тру-ру-руХрипит в динамик предвоенным спичемНа этом прохладительном ветруГде волосы капризнее, чем спички.
Огрызок одеяла теребя,Обрывки слов прихватывая горстью,Знай - нет её, а значит, ни тебя,Ни нас с тобой не ждут ни в рай, ни в гости.
И белый ваш не нужен кабинет,Раз смерти нет.
***
На карточке с трюмо, как в тёмном трюмевсё серо – и синтетика, и шерсть,как будто бы я в детстве просто умер,и мама всё оставила как есть с моим отцом – солдатика в буфете,и кубики, и со значками флаг,на тумбочке задорного медведя,за лоджией бушующий овраг, проигрыватель, плёночную деку,руль «мотылька», что бил меня под дых,и Брежнева, и Абэвэгэдэйку,самих себя, безумно молодых,
под гимн Союза в предрассветной рани –
такой вот вывих, вставленный в куплет,родительского нищего сознаньядлиною в сорок с половиной лет, – смотрю на них на всех, на вместе взятыхс поличным без билетов и монет,на это торжество семидесятыхнад временем, сводящим нас на нет.
Батона Вероника
Подборка 137
Подборка 137
Печальный образ
Сезон зонтов
Осанна осени. Осанка
Санкт-петербургских балерин.
Детва к зиме готовит санки,
Старухи ящики и банки.
Из ослепительных витрин
Уходит легкое дыханье -
Привет, пальто! Пришла пора
Для посиделок на диване.
Волна в Маркизовой лохани,
Смеясь, качает катера.
Уснули парковые Парки,
Повыпускав из рук клубки,
Легли кленовые припарки
На паруса, пролеты, арки,
На мостовые и мостки.
И облакам на небе потно,
И лед давно уже не айс.
Забыв о помыслах бесплодных,
Оранский принц и русский плотник
Глотнут пивка за легалайз.
Который царь как рад стараться,
Который век идет за два.
Вновь сентябред напишут в глянце.
Вернутся новые голландцы
В торговый рай на острова.
Красным-красна танцует осень
У Мариинки па-де-де…
Прости, мин херц – не будет весен.
Мы разошлись сегодня в восемь
И впредь не встретимся нигде.
Джей Мата Дурге
Кали рисует вьюгу. На Кали-югу
Ей наплевать. Птицы летят на юг.
Мост через пропасть. Дорога через Калугу.
В сером как сердце небе открылся люк.
Снег залепляет стекла и окуляры,
Сколько ни смотришь - белая полоса.
Хлопнешь покрепче дверью, плеснешь соляры...
В полночь сегодня меняются полюса.
Юг превратится в север, подлец в святошу,
Питер в Сент-Питсбург, Венди в мадам Тюссо,
Камень на шее бога - в чужую ношу.
Только Ассоль как ни крути - Ассоль.
Осень кровила долго - размокли лужи.
Прочь от Калуги дорога уходит в даль.
Белые кролики машут ушами - ну же
Сбился с маршрута - время крутить педаль,
Время лететь и падать. Июль в бокале,
Август на карте. Хором молчит родня.
В розовом храме звонко смеется Кали -
Ей до Калуги стопом четыре дня.
Минута
Прячутся мальчики в старых книгах, в тусклых открытках "Восьмого ма..."
В пульках свинцовых, монетках, нитках. Как незаметно пришла зима!
Тащится туша пешком по лужам, палка о камни - скирлы-скирлы.
Ужин не нужен, и дом не нужен, разве в кровати считать углы,
Прятаться куклой под одеялом, гладить обои, скрести узор.
Стал отработанным матерьялом, шлаком, отходом, позор, позор!
Буки крадутся к забытой зыбке, серые волки падут на грудь.
Мальчик, ты слышишь? Играй на скрипке, выйди из тени, останься, будь!
Ты, шестилетний, с песком в кармане, видишь, твой мячик упал в Неву.
Ежели Таня тебя поманит - прячься от Тани, сиди во рву.
Вот тебе корка и сахар сладкий. Вот от отца полтора письма.
Вот от бабули чулок с заплаткой. Мама исчезла восьмого ма...
Ты уцелеешь. Забудешь голод. Вырастешь сильный и молодой.
Чуешь - в тебя прорастает город, серым гранитом, густой водой.
Скрипка останется в бывшей детской. Крошится желтая канифоль.
Мальчик, уже никуда не деться - только по нотам, на страх и боль.
Только минута и я не стану. Ты, шестилетний, живи пока -
Струнным квартетом, зерном каштана. Камешком в клапане рюкзака...
Палеолитика
На полуострове, покрытом пылью и бранью,
Маленький мамонт сопротивляется вымиранью.
Ищет сухие травки, скрипит камнями,
Ходит на водопитие дни за днями.
Хобот поднявши к солнцу, трубит восходы,
Прячется когда люди идут с охоты.
Смотрит на можжевеловые коренья,
Смотрит на рыб, меняющих точку зренья
Вместе с течением, желтым или соленым.
Думает - не присниться ли папильоном
Где-то в Китае... мамонтами не снятся.
Время приходит сбросить клыки и сняться
С ветреной яйлы ниже, на побережье -
Там и враги и бури гуляют реже.
Можно под пальмой пыжиться по-слоновьи,
Можно искать пещеру, приют, зимовье.
Гнаться за яблоком, дергать с кустов лещину.
Люди проходят, кинув плащи на плечи.
Мамонт, ребята, это фигура речи
Монти Грааль, опция недеянья.
Я надеваю бурое одеянье.
Намасте, осень, тминова и корична!
Важно сопротивляться. Любовь вторична.
Важно дышать навстречу. Дышать, как будто
Бродишь по яйле, красной листвой укутан...
Печальный образ
Диагноз - девочка с маяка.
Соленый вереск, черничный прикус.
Любовь, как водится, на века.
Но в швах на сердце два пальца припуск.
Такая должность - чудить, мечтать,
Косплеить чайку, чаек бодяжить,
Читать Марину, вести счета,
Быть неумелой и робкой даже.
Краснеть от пальчиков до ушей,
Ругаться матом в текущей лодке.
В Большом театре бывать - в душе.
Скрести кастрюли, чинить колготки.
Носить зеленое. Косы - стричь.
Ночами носом клевать у лампы.
О мертвых птицах рыдать. Постичь
Печальный образ прекрасной дамы
Писать мне чаще. Любить любой,
Три цента счастья - уже удача.
И оставаться самой собой
На горизонте свечой маяча...
Молитва о коте
Господи, сохрани жизнь моему коту.
Пусть он и дальше пялится в пустоту,
Любит гонять за пробкой, грызет герань,
Будит меня, паршивец, в такую рань!
Господи, там на небе полно котов,
Пестрых и толстых, а я еще не готов.
Пусть мой дерет обои, орет в ночи –
Знаю, он точно когда-нибудь замолчит.
Но не сейчас, пожалуйста – вот он лег,
Мягкий и теплый, тощенький уголек.
Чмокает, ищет мамку, вильнул хвостом.
Нет бы им жить единожды лет по сто…
Господи, это глупости, слезы и маета –
Если так нужно, бери моего кота.
Вон Авраам сына тебе принес.
Сын же важнее, чем кот, или, скажем, пес.
На, держи осторожно, это же не дракон.
Пахнет полынью, летом и молоком.
Может обнять за шею, куснуть, шутя,
Сделал с полсотни черных шальных котят.
Ты береги его, Господи, гладь, корми.
С ними, хвостатыми, хлопотней, чем с людьми.
Пусть не филонит, ловит мышей в раю,
Тихо мурлычет баюшки, кот-баюн.
Пусть обо мне забудет – он зверь, не друг.
Но если вдруг с мяуканьем спрыгнет с рук,
Ты покажи: вот город, вот дом, в окне
Виден хозяин, думает обо мне,
И о тебе, кот, что ушел с Земли…
Господи, если можно продлить – продли!
Осанна осени. Осанка
Санкт-петербургских балерин.
Детва к зиме готовит санки,
Старухи ящики и банки.
Из ослепительных витрин
Уходит легкое дыханье -
Привет, пальто! Пришла пора
Для посиделок на диване.
Волна в Маркизовой лохани,
Смеясь, качает катера.
Уснули парковые Парки,
Повыпускав из рук клубки,
Легли кленовые припарки
На паруса, пролеты, арки,
На мостовые и мостки.
И облакам на небе потно,
И лед давно уже не айс.
Забыв о помыслах бесплодных,
Оранский принц и русский плотник
Глотнут пивка за легалайз.
Который царь как рад стараться,
Который век идет за два.
Вновь сентябред напишут в глянце.
Вернутся новые голландцы
В торговый рай на острова.
Красным-красна танцует осень
У Мариинки па-де-де…
Прости, мин херц – не будет весен.
Мы разошлись сегодня в восемь
И впредь не встретимся нигде.
Джей Мата Дурге
Кали рисует вьюгу. На Кали-югу
Ей наплевать. Птицы летят на юг.
Мост через пропасть. Дорога через Калугу.
В сером как сердце небе открылся люк.
Снег залепляет стекла и окуляры,
Сколько ни смотришь - белая полоса.
Хлопнешь покрепче дверью, плеснешь соляры...
В полночь сегодня меняются полюса.
Юг превратится в север, подлец в святошу,
Питер в Сент-Питсбург, Венди в мадам Тюссо,
Камень на шее бога - в чужую ношу.
Только Ассоль как ни крути - Ассоль.
Осень кровила долго - размокли лужи.
Прочь от Калуги дорога уходит в даль.
Белые кролики машут ушами - ну же
Сбился с маршрута - время крутить педаль,
Время лететь и падать. Июль в бокале,
Август на карте. Хором молчит родня.
В розовом храме звонко смеется Кали -
Ей до Калуги стопом четыре дня.
Минута
Прячутся мальчики в старых книгах, в тусклых открытках "Восьмого ма..."
В пульках свинцовых, монетках, нитках. Как незаметно пришла зима!
Тащится туша пешком по лужам, палка о камни - скирлы-скирлы.
Ужин не нужен, и дом не нужен, разве в кровати считать углы,
Прятаться куклой под одеялом, гладить обои, скрести узор.
Стал отработанным матерьялом, шлаком, отходом, позор, позор!
Буки крадутся к забытой зыбке, серые волки падут на грудь.
Мальчик, ты слышишь? Играй на скрипке, выйди из тени, останься, будь!
Ты, шестилетний, с песком в кармане, видишь, твой мячик упал в Неву.
Ежели Таня тебя поманит - прячься от Тани, сиди во рву.
Вот тебе корка и сахар сладкий. Вот от отца полтора письма.
Вот от бабули чулок с заплаткой. Мама исчезла восьмого ма...
Ты уцелеешь. Забудешь голод. Вырастешь сильный и молодой.
Чуешь - в тебя прорастает город, серым гранитом, густой водой.
Скрипка останется в бывшей детской. Крошится желтая канифоль.
Мальчик, уже никуда не деться - только по нотам, на страх и боль.
Только минута и я не стану. Ты, шестилетний, живи пока -
Струнным квартетом, зерном каштана. Камешком в клапане рюкзака...
Палеолитика
На полуострове, покрытом пылью и бранью,
Маленький мамонт сопротивляется вымиранью.
Ищет сухие травки, скрипит камнями,
Ходит на водопитие дни за днями.
Хобот поднявши к солнцу, трубит восходы,
Прячется когда люди идут с охоты.
Смотрит на можжевеловые коренья,
Смотрит на рыб, меняющих точку зренья
Вместе с течением, желтым или соленым.
Думает - не присниться ли папильоном
Где-то в Китае... мамонтами не снятся.
Время приходит сбросить клыки и сняться
С ветреной яйлы ниже, на побережье -
Там и враги и бури гуляют реже.
Можно под пальмой пыжиться по-слоновьи,
Можно искать пещеру, приют, зимовье.
Гнаться за яблоком, дергать с кустов лещину.
Люди проходят, кинув плащи на плечи.
Мамонт, ребята, это фигура речи
Монти Грааль, опция недеянья.
Я надеваю бурое одеянье.
Намасте, осень, тминова и корична!
Важно сопротивляться. Любовь вторична.
Важно дышать навстречу. Дышать, как будто
Бродишь по яйле, красной листвой укутан...
Печальный образ
Диагноз - девочка с маяка.
Соленый вереск, черничный прикус.
Любовь, как водится, на века.
Но в швах на сердце два пальца припуск.
Такая должность - чудить, мечтать,
Косплеить чайку, чаек бодяжить,
Читать Марину, вести счета,
Быть неумелой и робкой даже.
Краснеть от пальчиков до ушей,
Ругаться матом в текущей лодке.
В Большом театре бывать - в душе.
Скрести кастрюли, чинить колготки.
Носить зеленое. Косы - стричь.
Ночами носом клевать у лампы.
О мертвых птицах рыдать. Постичь
Печальный образ прекрасной дамы
Писать мне чаще. Любить любой,
Три цента счастья - уже удача.
И оставаться самой собой
На горизонте свечой маяча...
Молитва о коте
Господи, сохрани жизнь моему коту.
Пусть он и дальше пялится в пустоту,
Любит гонять за пробкой, грызет герань,
Будит меня, паршивец, в такую рань!
Господи, там на небе полно котов,
Пестрых и толстых, а я еще не готов.
Пусть мой дерет обои, орет в ночи –
Знаю, он точно когда-нибудь замолчит.
Но не сейчас, пожалуйста – вот он лег,
Мягкий и теплый, тощенький уголек.
Чмокает, ищет мамку, вильнул хвостом.
Нет бы им жить единожды лет по сто…
Господи, это глупости, слезы и маета –
Если так нужно, бери моего кота.
Вон Авраам сына тебе принес.
Сын же важнее, чем кот, или, скажем, пес.
На, держи осторожно, это же не дракон.
Пахнет полынью, летом и молоком.
Может обнять за шею, куснуть, шутя,
Сделал с полсотни черных шальных котят.
Ты береги его, Господи, гладь, корми.
С ними, хвостатыми, хлопотней, чем с людьми.
Пусть не филонит, ловит мышей в раю,
Тихо мурлычет баюшки, кот-баюн.
Пусть обо мне забудет – он зверь, не друг.
Но если вдруг с мяуканьем спрыгнет с рук,
Ты покажи: вот город, вот дом, в окне
Виден хозяин, думает обо мне,
И о тебе, кот, что ушел с Земли…
Господи, если можно продлить – продли!
Пешкова Светлана
Подборка 43
Подборка 43
Надо мной – земля
Письмо брату
Привет, Артём. У нас всё хорошо. Вчера похолодало, снег пошёл, с утра телёнка в сени запустили.
Отец не пьёт, из дома ни ногой, всё ждёт тебя. Да, ты ж у нас какой, родней семьи – то джунгли, то пустыни.
Ты снился мне: обрыв, тропинка вниз, бежишь по ней, кричу тебе: «Вернись!» и падаю в траву, теряя силы.
Вдруг лес зашевелился, стал живым, а ты ему командуешь: «Бежим!» –
и вздрогнули берёзы и осины,
послушно побежали за тобой, попарно, в одиночку и гурьбой, но замерли внезапно у границы –
в их кронах загорелся стыд и страх, и плакали в беспомощных руках привыкшие к родному месту птицы.
Потом я вынимала из золы обугленные мёртвые стволы и красила зелёным, чтоб не броско.
Приснится же такое, ну дела! …Твоя Полина снова запила, вчера весь день стояла у киоска.
Я снова без копейки – третий год.Весной поеду в город, на завод, сбегу из-под родительской опеки.
Ещё про сон… я стала хоронить стволы… чудно, конечно… но они давали тут же новые побеги.
12 июня
Июнь пропишет всех на дачах,Весёлых дней наобещав.
Забрезжит свет, проснётся мальчик,
Пойдёт с отцом на пруд рыбачить,
Поймает щуку и леща.
И этот день, счастливый самый,
Он будет помнить много лет:
Терраса, звонкий голос мамы,
Мажорный плеск фортепиано,
Уха, торжественный обед.
Отец похвалит, сядет рядом,
И младший брат не будет ныть,
И никуда спешить не надо…
Почти сто суток до блокады
И десять суток до войны.
Возвращение домой
В захолустном городишке всё, как прежде: Сладким солнцем наливается черешня, На бескрайних пустырях и огородах Зреют травы и толстеют корнеплоды.
И не режут глаз усталым горожанам
Алкаши и лопухи за гаражами,
У ДК – портреты лидеров горкома.
…Я опять бегу домой из гастронома
С неизменными покупками в авоське,
Обгоняя то собаку, то повозку.
Я несу янтарный квас в стеклянной банке,
Колбасу и бородинского буханку.
В палисаде, рыжей наглости не пряча,
Ждёт еду блохастый выводок кошачий –
Палку ливерки съедают в два присеста.
И скрипит по-стариковски дверь подъезда,
Я вдыхаю запах браги, лука, фарша.
Пять ступенек, дверь налево – это наша.
У меня тяжелый ключ висит на шее.
Почему он с каждым вдохом тяжелее?
Отчего застряли звуки в горле комом
И подъезд уже не кажется знакомым?
…Выпадает из авоськи чёрный камень,
А из банки льётся небо с облаками.
Надо мной – земля
Ты меня по имени не зови,
мы с тобой случайные визави –
две беды в прокуренной тишине.
…А меня вне города больше нет.
Я дитя его – у него внутри,
и смотрю глазами его витрин
от Базарной площади до пруда.
Я теперь из города – никуда.
От Никольской башенки – до кремля
подо мной – земля,
надо мной – земля.
Я теперь – дыханье крылатых львов,
папиросный дым, перегар дворов,
колокольный звон и колёсный скрип,
я – нектарный флёр златоглавых лип.
У меня в ладонях –
прохлада луж,
у меня в гортани –
сквозняк и сушь.
Ты привык по имени… Ну и что ж!
Отними у памяти, уничтожь,
вырви восемь звуков, сожги, развей,
без любимых слов – забывать быстрей.
Я тебе ни сродница, ни жена,
не тобой наказана-прощена.
Я – вьюнок, примятый твоей ногой,
и трава, и корни, и перегной,
серый мох, крадущий тепло камней…
Ты, когда остынешь, придёшь ко мне.
Баю-баю
Баю-баю... снов не видитСтарый хутор по ночам.По дворам, заросшим снытью,Бродит лунная печаль.То, вздохнув, уронит грушу,То прольёт вишнёвый сок,То из бурой вязкой лужиСмачно сделает глоток.То водой в колодце булькнет,То возьмётся в окна дуть.А устанет – ляжет в люльку,Позабытую в саду.Ветер люлечку качает,Осторожный, словно вор.За плетнями, нескончаем,Стелет простыни простор.Заглянула в люльку птица –Ищет гнёздышко птенцам...Седовласый пар клубитсяУ прогнившего крыльца.Речка звёзды привечает,Привечать чужих – не грех.Над заброшенным причаломВьётся иволговый смех.
Волк, свернувшийся в калачик,Спит у чёрного куста.Баю-бай.Никто не плачет.Ночь.И люлечкапуста.
Привет, Артём. У нас всё хорошо. Вчера похолодало, снег пошёл, с утра телёнка в сени запустили.
Отец не пьёт, из дома ни ногой, всё ждёт тебя. Да, ты ж у нас какой, родней семьи – то джунгли, то пустыни.
Ты снился мне: обрыв, тропинка вниз, бежишь по ней, кричу тебе: «Вернись!» и падаю в траву, теряя силы.
Вдруг лес зашевелился, стал живым, а ты ему командуешь: «Бежим!» –
и вздрогнули берёзы и осины,
послушно побежали за тобой, попарно, в одиночку и гурьбой, но замерли внезапно у границы –
в их кронах загорелся стыд и страх, и плакали в беспомощных руках привыкшие к родному месту птицы.
Потом я вынимала из золы обугленные мёртвые стволы и красила зелёным, чтоб не броско.
Приснится же такое, ну дела! …Твоя Полина снова запила, вчера весь день стояла у киоска.
Я снова без копейки – третий год.Весной поеду в город, на завод, сбегу из-под родительской опеки.
Ещё про сон… я стала хоронить стволы… чудно, конечно… но они давали тут же новые побеги.
12 июня
Июнь пропишет всех на дачах,Весёлых дней наобещав.
Забрезжит свет, проснётся мальчик,
Пойдёт с отцом на пруд рыбачить,
Поймает щуку и леща.
И этот день, счастливый самый,
Он будет помнить много лет:
Терраса, звонкий голос мамы,
Мажорный плеск фортепиано,
Уха, торжественный обед.
Отец похвалит, сядет рядом,
И младший брат не будет ныть,
И никуда спешить не надо…
Почти сто суток до блокады
И десять суток до войны.
Возвращение домой
В захолустном городишке всё, как прежде: Сладким солнцем наливается черешня, На бескрайних пустырях и огородах Зреют травы и толстеют корнеплоды.
И не режут глаз усталым горожанам
Алкаши и лопухи за гаражами,
У ДК – портреты лидеров горкома.
…Я опять бегу домой из гастронома
С неизменными покупками в авоське,
Обгоняя то собаку, то повозку.
Я несу янтарный квас в стеклянной банке,
Колбасу и бородинского буханку.
В палисаде, рыжей наглости не пряча,
Ждёт еду блохастый выводок кошачий –
Палку ливерки съедают в два присеста.
И скрипит по-стариковски дверь подъезда,
Я вдыхаю запах браги, лука, фарша.
Пять ступенек, дверь налево – это наша.
У меня тяжелый ключ висит на шее.
Почему он с каждым вдохом тяжелее?
Отчего застряли звуки в горле комом
И подъезд уже не кажется знакомым?
…Выпадает из авоськи чёрный камень,
А из банки льётся небо с облаками.
Надо мной – земля
Ты меня по имени не зови,
мы с тобой случайные визави –
две беды в прокуренной тишине.
…А меня вне города больше нет.
Я дитя его – у него внутри,
и смотрю глазами его витрин
от Базарной площади до пруда.
Я теперь из города – никуда.
От Никольской башенки – до кремля
подо мной – земля,
надо мной – земля.
Я теперь – дыханье крылатых львов,
папиросный дым, перегар дворов,
колокольный звон и колёсный скрип,
я – нектарный флёр златоглавых лип.
У меня в ладонях –
прохлада луж,
у меня в гортани –
сквозняк и сушь.
Ты привык по имени… Ну и что ж!
Отними у памяти, уничтожь,
вырви восемь звуков, сожги, развей,
без любимых слов – забывать быстрей.
Я тебе ни сродница, ни жена,
не тобой наказана-прощена.
Я – вьюнок, примятый твоей ногой,
и трава, и корни, и перегной,
серый мох, крадущий тепло камней…
Ты, когда остынешь, придёшь ко мне.
Баю-баю
Баю-баю... снов не видитСтарый хутор по ночам.По дворам, заросшим снытью,Бродит лунная печаль.То, вздохнув, уронит грушу,То прольёт вишнёвый сок,То из бурой вязкой лужиСмачно сделает глоток.То водой в колодце булькнет,То возьмётся в окна дуть.А устанет – ляжет в люльку,Позабытую в саду.Ветер люлечку качает,Осторожный, словно вор.За плетнями, нескончаем,Стелет простыни простор.Заглянула в люльку птица –Ищет гнёздышко птенцам...Седовласый пар клубитсяУ прогнившего крыльца.Речка звёзды привечает,Привечать чужих – не грех.Над заброшенным причаломВьётся иволговый смех.
Волк, свернувшийся в калачик,Спит у чёрного куста.Баю-бай.Никто не плачет.Ночь.И люлечкапуста.
Тенятников Сергей
Подборка 41
Подборка 41
Вечерний разговор
Вечерний разговор
вечерний разговор на непонятном языке
плывёт по улице.
можно подумать, что эти двое молятся.
выглядываю в окно,
соседи обсуждают что-то своё соседское.
мне это знать незачем,
пусть это остаётся вечерней молитвой.
Кладбище
кладбище в немецком городишке
на границе с Голландией.
крошечные могилки –
в такие и двухмесячный щенок не поместится.
мёртвые теснят друг друга в земле.
живые экономят деньги и слёзы.
Книжка
хорошая книжка похожа на кота:
спрыгнув со стола,
ложится читателю на живот,
обхватывает его печатными лапками,
страницами мурчит:
переплёт почеши.
читатель гладит её
от форзаца и до хвоста,
книжка вытягивается, млея,
закатывает глаза автора…
и читатель забывает
конституцию и звание
главнокомандующего.
книжка шепчет сквозь сон:
знаю, сколько сколько бы ни было
у тебя ещё книг,
ты за меня отдать готов
всю свою ночь.
Творение
после того, как творец создал человека,
он подумал: хорошо поработал,
и хотел было поставить точку,
но неожиданно чихнул и
получилось многоточие.
Вселенная
я никогда, никогда
не встречал НЛО.
как же я одинок
во вселенной…
Лёд
в конце века в Сибири в школе
нас учили всему понемногу:
трудовик учил убирать территорию вокруг гаража,
где у него был бизнес по ремонту автомобилей.
мы брали ломы и долбили вместо уроков два часа
серый лёд, точно зэки.
историк учил выбирать правильную партию,
правильную значит крайне правую.
вы все расисты, говорил он, кто из вас
способен влюбиться в негроида? руку подняла
одна девушка. вот, торжествовал учитель,
я же говорю, исключение подтверждает правило.
все люди – ра-сис-ты. он был хорошим дидактиком.
вместо урока физики мы слушали лекцию
о физиологических недостатках жёлтой расы.
девочки, не выходите замуж за китайцев,
от них рождаются такие страшные дети,
волновалась учительница физики.
мы не разделяли её страсти и хихикали.
о жёнах-азиатках она почему-то умалчивала.
на уроке математики нам преподавали
Большой террор и Колымские рассказы.
в потрёпанных советских учебниках
водились бесы. мы пририсовывали вождям
рога, копыта и другие гипертрофированные части тела.
варили их в котлах, выкалывали им глаза.
да, мы были честными партизанами инквизиции.
наша классная руководительница ушла в челноки.
директор… земля ему пухом.
время было такое, говорят мне,
люди были, в общем-то, не плохие и не хорошие.
все пытались выжить. каждый, как мог.
и они выжили. не все, конечно.
тогда какого чёрта я до сих пор долблю
этот долбанный лёд?
чтобы сделать один лишь шаг,
чтобы просто остаться на ногах,
чтобы просто... что..?
Автопортрет
написал стишок.
смотрю в зеркало.
вылитый древний грек.
только хорошо упитанный.
много мрамора ушло бы
на всю эту срамоту.
Снова спрашивают
снова спрашивают, ценится ли поэзия?
отвечаю, конечно, ценится.
ещё как ценится!
особенно она вырастает в цене
после термической обработки.
когда её подают на стол,
все цокают языками…
очень высоко ценятся
нерождённые стихи.
при чем чёрные в несколько раз дороже красных.
ммм…
Заблуждение
я придумал следующее тысячелетие.
я создал новый род человеческий.
я стал первопричиной всего.
что мне делать теперь
с этим камешком
в правом ботинке?
Жажда
мы все пьём одну и ту же воду,
и никак не можем
напить-
ся.
вечерний разговор на непонятном языке
плывёт по улице.
можно подумать, что эти двое молятся.
выглядываю в окно,
соседи обсуждают что-то своё соседское.
мне это знать незачем,
пусть это остаётся вечерней молитвой.
Кладбище
кладбище в немецком городишке
на границе с Голландией.
крошечные могилки –
в такие и двухмесячный щенок не поместится.
мёртвые теснят друг друга в земле.
живые экономят деньги и слёзы.
Книжка
хорошая книжка похожа на кота:
спрыгнув со стола,
ложится читателю на живот,
обхватывает его печатными лапками,
страницами мурчит:
переплёт почеши.
читатель гладит её
от форзаца и до хвоста,
книжка вытягивается, млея,
закатывает глаза автора…
и читатель забывает
конституцию и звание
главнокомандующего.
книжка шепчет сквозь сон:
знаю, сколько сколько бы ни было
у тебя ещё книг,
ты за меня отдать готов
всю свою ночь.
Творение
после того, как творец создал человека,
он подумал: хорошо поработал,
и хотел было поставить точку,
но неожиданно чихнул и
получилось многоточие.
Вселенная
я никогда, никогда
не встречал НЛО.
как же я одинок
во вселенной…
Лёд
в конце века в Сибири в школе
нас учили всему понемногу:
трудовик учил убирать территорию вокруг гаража,
где у него был бизнес по ремонту автомобилей.
мы брали ломы и долбили вместо уроков два часа
серый лёд, точно зэки.
историк учил выбирать правильную партию,
правильную значит крайне правую.
вы все расисты, говорил он, кто из вас
способен влюбиться в негроида? руку подняла
одна девушка. вот, торжествовал учитель,
я же говорю, исключение подтверждает правило.
все люди – ра-сис-ты. он был хорошим дидактиком.
вместо урока физики мы слушали лекцию
о физиологических недостатках жёлтой расы.
девочки, не выходите замуж за китайцев,
от них рождаются такие страшные дети,
волновалась учительница физики.
мы не разделяли её страсти и хихикали.
о жёнах-азиатках она почему-то умалчивала.
на уроке математики нам преподавали
Большой террор и Колымские рассказы.
в потрёпанных советских учебниках
водились бесы. мы пририсовывали вождям
рога, копыта и другие гипертрофированные части тела.
варили их в котлах, выкалывали им глаза.
да, мы были честными партизанами инквизиции.
наша классная руководительница ушла в челноки.
директор… земля ему пухом.
время было такое, говорят мне,
люди были, в общем-то, не плохие и не хорошие.
все пытались выжить. каждый, как мог.
и они выжили. не все, конечно.
тогда какого чёрта я до сих пор долблю
этот долбанный лёд?
чтобы сделать один лишь шаг,
чтобы просто остаться на ногах,
чтобы просто... что..?
Автопортрет
написал стишок.
смотрю в зеркало.
вылитый древний грек.
только хорошо упитанный.
много мрамора ушло бы
на всю эту срамоту.
Снова спрашивают
снова спрашивают, ценится ли поэзия?
отвечаю, конечно, ценится.
ещё как ценится!
особенно она вырастает в цене
после термической обработки.
когда её подают на стол,
все цокают языками…
очень высоко ценятся
нерождённые стихи.
при чем чёрные в несколько раз дороже красных.
ммм…
Заблуждение
я придумал следующее тысячелетие.
я создал новый род человеческий.
я стал первопричиной всего.
что мне делать теперь
с этим камешком
в правом ботинке?
Жажда
мы все пьём одну и ту же воду,
и никак не можем
напить-
ся.